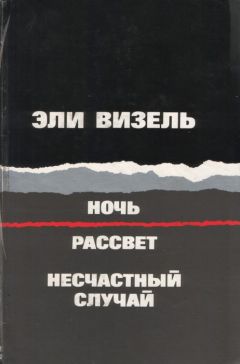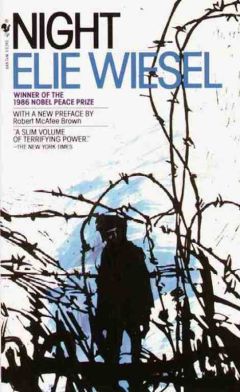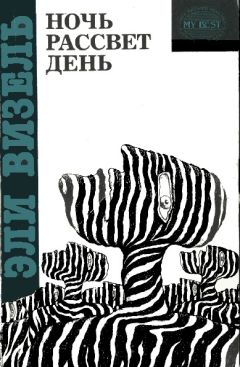Я совершенно успокоился и овладел собой. Если бы я покопался в себе поглубже, то обнаружил бы, что под моим спокойствием скрывается удовлетворение, удивительная радость — а может, просто настроение, которое возникает от сознания собственной силы и собственного одиночества. Я повторял себе: он не знает. И лишь в моей воле сказать ему, изменить его будущее. В эту минуту я был его судьбой.
— Когда мне впервые в жизни делали операцию, я видел сон. Я не рассказывал вам его? — спросил я веселым тоном, улыбаясь. — Нет? Рассказать вам? Моя мама отвела меня в клинику моего двоюродного брата, Оскара Сретера, чтобы удалить миндалины. Он усыпил меня эфиром. Когда я проснулся, Оскар Сретер спросил меня: «Ты плачешь, оттого, что тебе больно?» — «Нет, — ответил я, — я плачу, потому что я видел Бога». Странный сон. Я вознесся на небо. Бог сидел на своем престоле во главе сонма ангелов. Меня отделяло от Него бесконечное расстояние, но я видел Его так ясно, словно он был рядом со мной. Бог поманил меня, и я пошел к Нему. Я шел несколько жизней, но не приближался. Тогда два ангела подхватили меня, и внезапно я оказался лицом к лицу с Богом. Наконец-то! — подумал я. Теперь я смогу задать ему вопрос, над которым бились все мудрецы Израиля. В чем смысл страдания? Но, объятый страхом, я не мог произнести и звука. Тем временем, другие вопросы теснились в моей голове: когда настанет час искупления? Когда Бог одолеет Зло, и тем самым навсегда уничтожит хаос? Но мои губы лишь дрожали и слова застревали в горле. Тогда Бог заговорил со мной. Тишина стала такой всеобъемлющей, такой прозрачной, что мое сердце устыдилось своего стука. Тишина осталась такой же абсолютной, когда я услышал слова Бога. У Него слово и тишина не противоречили друг другу. Бог ответил на мои вопросы и многие другие. Потом два ангела вновь подхватили меня под руки и понесли обратно. Один из них сказал другому: «Он стал тяжелее», а другой ответил: «Он несет важный ответ». Тут я проснулся. Надо мной с улыбкой склонился доктор Сретер. Я хотел сказать ему, что только что слышал слова Бога, как вдруг понял, к своему ужасу, что я их позабыл. Я больше не помнил, что Бог сказал мне. У меня хлынули слезы. «Ты плачешь оттого, что тебе больно?» — спросил добрый доктор Сретер. «Мне не больно, — ответил я. — Я плачу потому, что только что видел Бога. Он говорил со мной, и я позабыл, что Он сказал». Доктор дружески расхохотался: «Хочешь, я усыплю тебя еще раз и ты попросишь Его повторить…» Я плакал, а мой двоюродный брат от души смеялся… А в этот раз, доктор, когда я спал, простертый на вашем операционном столе, я не увидел Бога во сне. Его там больше не было.
Пол Рассел внимательно слушал. Склонившись вперед, он, казалось, искал потаенный смысл в каждом слове. Его лицо изменилось.
— Ты не ответил на мой вопрос! — заметил он, все еще напряженно.
Значит, он не понял. Ответ на его вопрос! Так это и был мой ответ! Разве он не видит, чем вторая операция отличается от первой? Это не его вина. Он не может понять. Мы с ним такие разные, мы так далеко друг от друга. Его пальцы прикасаются к жизни. Мои — к смерти. Без промежутков, без преград. Жизнь, смерть — каждая из них так же правдива и обнажена, как и другая. Проблема не умещалась в рамки нашего восприятия. Действие разыгрывалось в невидимой сфере, на отдаленном экране, между двумя державами, которым мы служили только посланцами.
Стоя напротив моей кровати, он наполнял комнату своим присутствием. Он ждал. Он чувствовал, что здесь кроется раздражающая его тайна, и но выводило его из себя. Мы оба были молоды, и оба были живы. Он смотрел на меня пристальным, настойчивым вкладом, пытаясь уловить то, что ускользало от него. Должно быть, первобытный человек так наблюдал, как день скрывается за горами.
Мне хотелось сказать ему: иди Пол Рассел, ты прямодушный и мужественный человек. Ты должен оставить меня. Не проси меня говорить. Не пытайся узнать, ни кто я, ни кто ты. Я сказочник. Мои скажи можно рассказывать только и сумерках. Тот, кто их слушает — вопрошает свою жизнь. Уходи, Пол Рассел, уходи. Герои моих сказок жестоки и безжалостны. Они могут задушить тебя. Ты все же хочешь узнать, кто я такой? Я и сам не знаю. Иногда я Шмуэль, резник. Посмотри на меня внимательно. Нет, не на мое лицо. На мои руки.
В бункере было человек десять. Ночь за ночью они слушали лай немецких полицейских собак, рыскавших среди развалин в поисках евреев, скрывающихся в подземных убежищах. Шмуэль и остальные существовали практически без воды и хлеба, и почти без воздуха. Они держались. Они знали, что здесь, в подземелье, в своей узкой темнице, они свободны. Там, наверху, их поджидала смерть. Однажды ночью чуть не стряслась беда. Это Голда была виновата. Она взяла с собой своего ребенка, пятимесячного младенца. Он начал плакать, подвергая опасности жизнь беглецов. Голда старалась успокоить его, убаюкать, но напрасно. Тогда все, в том числе и Голда, обернулись к Шмуэлю и сказали: «Заставь его заткнуться. Займись им. Твоя работа — резать цыплят, ты сумеешь сделать так, чтобы он не очень мучился». И Шмуэль счел это разумным: жизнь ребенка — в обмен на жизнь всех остальных. Он взял ребенка. В темноте его пальцы нащупали шейку. И тишина воцарилась на земле и в небесах. Только издалека доносился лай собак.
Я чуть-чуть улыбнулся. Я подумал, что Шмуэль, наверное, тоже был врачом.
Пол Рассел не двигался. Он все еще ждал.
Мойше — контрабандист. Он тоже из Сигета. Мы были друзьями. С тех пор, как нам исполнилось по восемь лет, мы с ним встречались на улице каждое утро в шесть часов, и с фонарями в руках шли в хедер. Там нас ждали книги, которые были больше нас самих. Мойше хотел стать рабби. Сегодня он контрабандист, и за ним охотятся все полиции Европы. В концлагере он видел, как набожный человек обменял свой недельный паек хлеба на молитвенник. Человек этот умер меньше, чем через месяц. Перед смертью он поцеловал драгоценную книгу и пробормотал: «Книга, скольких людей ты погубила?» В этот день Мойше решил изменить течение своей жизни. Так человечество приобрело контрабандиста и утратило рабби. И никому от этого не хуже.
Ты хочешь узнать, кто я такой, доктор? Я также и Мойше-контрабандист. Но главное, я тот, кто видел, как бабушка вознеслась на небо. Словно пламя, она прогнала солнце и заняла его место. И это новое солнце, которое ослепляет, вместо того, чтобы светить, заставляет меня ходить, опустив голову. Оно нависает над будущим человечества, погружает во мрак сердца новых поколений, затуманивает их взор.
Если бы я говорил начистоту, Пол Рассел понял бы трагическую судьбу уцелевших, тех, кто вернулся, живых мертвецов. Нужно присмотреться к ним внимательнее. Их внешность сбивает с толку, они обманщики. Они выглядят так же, как окружающие. Они едят, смеются, любят. Они жаждут славы, денег, любви. Совсем, как другие люди. Но это неправда, они притворяются, иногда сами того не подозревая. Человек, который видел то, что видели они, не может быть таким, как другие. Он не может смеяться, любить, молиться, торговаться, страдать, развлекаться и забывать… Совсем, как другие люди. Нужно присмотреться к ним внимательнее, когда они проходят мимо невинно выглядящей дымовой трубы или подносят ко рту кусок хлеба. Что-то в них наводит дрожь и заставляет опускать глаза. Эти люди — калеки, они сохранили ноги и глаза, но утратили волю и вкус к жизни. То, что они видели, раньше или позже даст о себе знать. И тогда мир ужаснется и не осмелится смотреть этим искалеченным душам в глаза.
Если бы я говорил начистоту, Пол Рассел понял бы почему не следует задавать тем, кто вернулся, слишком много вопросов. К ним нельзя относиться как к обычным людям. От страшного потрясения у них словно лопнула внутри пружина. Рано или поздно, последствия скажутся. Но я не хотел, чтобы Пол Рассел понимал. Я не хотел, чтобы он утратил душевное равновесие. Я не хотел, чтобы он узнал правду, которая в любой момент грозила выйти наружу.
Я начал убеждать его, что он ошибся. Только бы он ушел и оставил меня в покое. Конечно, я хочу жить. Разумеется, я хочу жить, творить, создавать вечные ценности, помочь человечеству сделать шаг вперед, внести вклад в его прогресс, счастье и процветание! Я говорил долго и страстно, намеренно употребляя возвышенные слова и запутанные абстрактные выражения. А поскольку он все еще сомневался, я привел доказательство, к которому он не мог остаться равнодушным. Любовь! Я люблю Катлин. Я люблю ее всем сердцем. А как можно любить и в то же время не хотеть жить? Как можно любить, если не верить в жизнь или любовь?
Лицо молодого врача постепенно приняло обычное выражение. Он услышал то, что хотел услышать. Его философии ничто не угрожало. Все встало на свои места. Никакой дружбы между пациентами и врачами! Нет ничего более священного, чем жизнь, более нравственного, великого и благородного. Отрицать жизнь — грех, глупость и безумие. Нужно принимать жизнь, лелеять ее и любить, бороться за нее, как за сокровище, за женщину, как за тайное наслаждение.