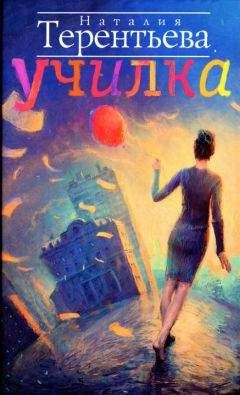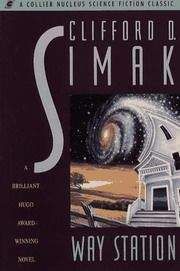Ознакомительная версия.
— Мам, — не дала мне додумать такую важную мысль подошедшая Настька, — мам, мам, а вот можно, Никитос пойдет дружить с большими мальчиками?
Я удивленно оглянулась на Никитоса. Чтобы он задавался подобными вопросами? Что ему можно, а что нельзя? Да он и не задавался! Он давно уже дружил, точнее, стоял, раскрыв рот, около Будковского и его товарища Пищалина и слушал галиматью, которую громко нес Сеня.
— А я ему как врезал, а он стоит, тупит, а я еще раз вррезз… — Размахивая руками, Сеня задел Никитоса, тот потер лоб, но, совершенно довольный, продолжал топтаться около Будковского. Нашел себе товарища по разуму, точно. Ох, не зря я за него боюсь.
— Сядь, пожалуйста! В автобусе нельзя стоять!
Никитос тут же повернул ко мне голову, но я не была уверена, что он сейчас что-то слышал, кроме удивительного рассказа Сени.
Я постаралась прислушаться к тому, чем хвастался Будковский. Ну я же должна знать, о чем они думают, к чему стремятся, чего боятся — если я намерена их полюбить. Сеня, судя по всему, придумывал на ходу какую-то историю, из которой следовало, что некий большой мальчик, или даже два, или три стояли и боялись Будковского, а Будковский всем по очереди врезал. И по почкам, и по печени, и по голове, и по ушам, отдельно от всей головы. Те мальчики падали, один за одним, вставали, пытались убежать, но Будковский все бил их и бил.
Никитос, понятно, слушал, замерев от восторга.
Вот интересно, если проанализировать то, что рассказывал Будковский, с точки зрения нормальной, не больной психики — а он не болен, в смысле психически здоров, я почти уверена, — что он хотел поведать? Каков пафос этого глупого рассказа? «Я самый сильный»? И всего-то? «Бойтесь меня»? «Я — вожак стаи»? Но он это говорил не девочкам, не всему классу, даже не группе мальчиков. Никто больше, кроме Пищалина и моего обормота, его не слушал. Пищалин и так его уважает, лучший друг, во всем подражает, Никитос — вообще малявка, не в счет. Зачем тогда? Прокручивается и прокручивается в голове схема «Я вожак. Я вожак. Я вожак»? И он ее проговаривает? «Зашибись… зашибись… зашибись…»
— Ой, Ан-Леонидна! — раздался девчоночий голос, отвлекший меня от наблюдений и размышлений о Будковском. — Лизку тошнит! Ой, Лизка, ты что?
Я обернулась. Лиза правда сидела бледная, прижав руку ко рту.
— Остановитесь, пожалуйста! — попросила я водителя.
— Здесь нельзя, трасса, — взглянув на меня в зеркальце заднего вида, ответил он. — Чуть дальше будет карман, встанем.
— Ой, ее стошнит! — запричитали девочки.
Я подошла к Лизе.
— Тебе плохо? У меня, наверно, пузырек нашатыря есть…
— Не-е… — слабо сказала девочка. — Я беременная…
Я напряглась. Так. Это шутки, понятно. Глупые. Или… или нет? У них уже есть месячные, скорей всего почти у всех. На девушек уже многие похожи. Но не до такой же степени… Привлекает внимание мальчика, что ли, какого-то? Я оглянулась. Никто особенно ею не интересуется. Но ведь она во дворе все оглядывалась да и оделась так явно для кого-то. Я, ища помощи, оглянулась на Катю. Она тоже смотрела на Лизу, как большинство — с интересом. Весело. Без особого сочувствия. Почему?
— Лиза… — Я наклонилась к девочке. — Тебе дать воды?
— Не-ет… — все так же слабо отреагировала она.
Я взяла ее руку. Нормальная, теплая, не влажная, не холодная рука. Потрогала лоб. Лоб ледяной. Но Лиза и одета соответствующе — чтобы замерзнуть даже в теплом автобусе. Так… Не понимаю пока…
— Ну что, тебе получше? Или попросить водителя включить аварийный сигнал и остановиться?
— Не знаю…
— Лизку просто, когда она летела с шестнадцатого этажа, — сказала Катя, — укачало. С тех пор так и тошнит. Она у нас иногда падает с высоты. От нервных перегрузок и вообще.
— Ага, а когда она пролетала мимо десятого, то — забеременела, — подхватила ее подружка.
И все засмеялись. Надо сказать, что дружно и не зло. И Лиза, мгновенно покрасневшая, смеялась вместе со всеми, то и дело косясь на крупного мальчика со слегка бурятским лицом, Сашу Ливнева. Вот так вроде посмотришь — Саша и Саша. А потом взглядом по тебе скользнет, и понимаешь — сидели его предки веками в круглых юртах, шили из конской кожи себе одежду, пели, поднимаясь по четвертям тонов, бесконечные песни о том, что лучше степи утром может быть только степь вечером, и не знали, что их потомок будет жить в огромном человеческом муравейнике с квадратными домами, квадратными окнами, где не будет совсем лошадей, что он станет дружить с детьми, у которых глаза круглые, как луна, и кожа светлая-светлая, светлее, чем молоко кобылы…
Вот для него Лизка так и оделась.
— Полегчало? — спросила я Лизу, уже всё поняв по ее порозовевшим щекам и веселому глупому смеху.
— Ага…
— А еще у нее братья — чемпионы мира по боксу! — договорила Катя.
— Все?
— Да, все четверо, двоюродные! Один в Австралии живет, другой в Голландии, а двое — в Америке. И все чемпионы.
— Ну ладно, Катька! — вступила Лиза. — Не все. Один бывший чемпион. Он сейчас просто женился на одной известной модели…
— И она родила ему тройню, — договорила Катя. — Один малыш белый, другой — черный, а третий — японец.
— Откуда ты зна-а-ешь? — протянула Лиза.
— Так, ну ладно! — засмеялась я. — Лиза у нас местный Мюнхаузен, может быть, станет писателем или сценаристом. Зря смеетесь. Самые большие вруны часто становятся литераторами.
— Я не вру… — сказала Лиза. — Я правда беременная.
— Хорошо, — согласилась я, чувствуя легкую тревогу. — А я президент Мозамбика в таком случае.
— Ну-у-у… — сказала Лиза.
— Тебе получше?
— Ну да-а-а-а…
И я решила закрыть эту тему. В конце концов, я — классный руководитель без году неделя. Я пока о них ничего не знаю и знать не могу. Я села на свое место, решив не трогать больше Лизу. Мельком взглянув на совершенно очумевшего от Будковского и его россказней Никитоса, я лишь про себя вздохнула и подумала, что не стоит часто приводить Никитоса в класс. Авось яркий образ Сени со временем забудется. Иначе — всё. Есть кому подражать. Найден нужный герой. Я давно не видела своего бурного мальчика в таком просто неописуемом восторге. Разве что когда Игоряша подарил ему на день рождения радиоуправляемый танк, который мало того что поворачивался, он — стрелял! Издавал звуки, как будто стреляет. Никитос играл танком до изнеможения, в мало интеллектуальную, женщинам вовсе не понятную игру, когда стреляющий предмет движется без остановки и стреляет, стреляет, стреляет. Возможно, для мужчин и мальчиков это скрытый для них самих в глубинной сути своей вечный образ непрерывающегося жизненного цикла. Мне приятнее думать, что мой Никитос в глубине души — неотразимый в будущем мачо, неутомимый и неугомонный, а не безголовый воитель.
Главное, что Будковский тоже нашел в Никитосе благодарного слушателя, старался, кричал, что-то показывал, сам хохотал, Никитос хохотал тоже… Не хватает мужского образа для подражания в моем доме. Ясно. Андрюшке Никитос как-то не хочет подражать. На том обычно виснут его собственные дети, он завален поручениями Евгении Сергеевны — в те редкие часы отдыха, когда мы его видим. Ну а уж про Игоряшу и речи нет. Поэтому он потрясен Будковским. Или не поэтому. А потому что сам таким будет через пять лет. Грозой всех учителей, клоуном, вечной выскочкой и мешалкой на уроках. И сделать с этим что-то очень трудно. Но мы попробуем.
Я очень боялась, что дома нас ждет сюрприз — заплаканный Игоряша на ступеньках лестницы, измученный страданиями, с мокрой от слез бородой. Но — увы и ах. Никто на ступеньках не плакал, мокрую бороду не перебирал неуверенными пальцами с рыжей курчавой щетиной, задумчиво не грыз аккуратно подпиленные ногти, никто виновато не смотрел, не канючил, никто к нам не бросился, чтобы повиниться и поклясться в вечной любви.
Я покрепче сжала Настькину руку — видела, что она оглядывается во дворе, с надеждой спешит в подъезд — там тепло, там приятнее плакать и ждать. И там нас тоже никто не ждал и не плакал.
— Ну и ладно, да, Насть? — сказала я. — Подумаешь!
— Мам, откуда ты знаешь, о чем я… — Настька доверчиво посмотрела на меня и прижалась к моей руке.
Не знаю, чем там может быть намазано, в Мырмызянске, чтобы отказаться от этого света Настькиных глаз. Более увлеченная Никитосом, я иногда бегу мимо нее, бегу на грохот, на хохот, на взрывы в детской. А светящаяся изнутри Настька стоит рядом и уговаривает меня не убивать хохочущего и грохочущего взрывателя.
Я поцеловала Настьку.
— Мне положено, Настюня, знать о вас всё. И ты будешь всё знать о своих детях.
— И Никитос тоже? — с сомнением спросила Настька.
— И Никитос.
— Я — нет! — проорал Никитос. — Я их съем! — Он открыл рот так, что у него что-то скрипнуло за ушами, стал надвигаться на Настьку, показывая, как именно он съест своих будущих детей, и сам оглушительно захохотал.
Ознакомительная версия.