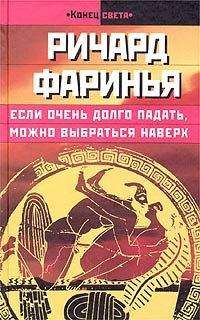— И давай без милых, хорошо? Ты же не домохозяйка, правда?
— Я думала, тебе нравится. Нормальное слово.
— Дерьмовое слово. Сладенький. Овечка.
— Гноссос, ты пьян?
— Голубочки. Ангелочек.
— Ты пьян? — В свободной руке она держала список факультетских преподавателей.
— Брось, малыш, у тебя же нос не заложило?
— Черт возьми, Пух, я думала, ты уже бросил.
— Ага, бросил, это уже не я. Иди сюда, пообжимаемся. — Хихикнув, он скакнул вперед и воткнулся в дверь холодильника.
— Полегче, пожалуйста. Господи, видел бы ты свои глаза.
— Чего?
— Мне они не нравятся.
Они ей не нравятся. Какая ужасная неожиданность, они ей не нравятся.
— Почему ты на меня так смотришь?
— Ты, кажется, превращаешься в параноика.
— Параноика? Кто, черт возьми, параноик? И где, черт возьми, ты была ночью, и что вообще здесь происходит?
— Конечно в общаге, глупый. Джуди Ламперс сказала, что я выписалась? Я рисовала плакаты для демонстрации, только и всего.
— Неужели? Ладно, на фиг демонстрации. На фиг дерьмовую хунту, дамские комитеты, собрания — ты же не Флоренс Найтингейл при Овусе, правда, детка?
— Выражение ее лица изменилось. Ха.
— Я думала, тебе интересно, чем мы занимаемся!
Не загоняй ее слишком в угол, маскируйся.
— Ты морочишь мне голову.
— Я никому ничего не…
— Поиграйся со мной еще, и я тебе руку сломаю, ага?
— Гноссос, — отодвигая в сторону список, чтобы он уже не смог прочесть. — Ради всего святого, что с тобой происходит?
— Ничего особенного. Иди сюда, у меня для тебя кое-что есть.
— Ты не заслужил.
— Циклическая фаза, периодически, и кстати говоря…
— Вот-вот, я так радовалась, что они напечатали письмо слово в слово, и вообще…
— Нахуй письмо.
— Гноссос, придержи язык. Мне неприятно слушать, как ты ругаешься. У тебя есть сигареты?
— Нету. И еще раз нахуй письмо. Не по мне оно все, что непонятного? Где ты была сегодня в три часа дня, и откуда взялись эти психованные интриганки? В гробу я видел все эти комитеты, ясно? Как только они умудрились подвесить всех на одну веревку, не понимаю — и главное, ни с того, ни с сего.
— Почему, ни с того ни с сего, глупый? Когда я предложила, ты…
— Послушай, я написал письмо, так? Остальным пусть занимаются крутые ребята. Мы с тобой Исключение, у нас отличный Иммунитет. Иди ко мне.
— Ты слишком накурился, прошу тебя.
— Ты говоришь мне нет?
— Пожалуйста, Винни-Пух.
— Значит, я должен просить?
— Гноссос, хватит.
Он опять зажег погасший косяк, глубоко затянулся и метнул бычок в раковину. В скользких серых кольцах внутренностей разрасталось омерзение. Он действительно не знал, что он делает.
И все же потом, когда она раззадорила его внутреннее зрение легкими намеками на послемесячные удовольствия, когда их желудки наполнились фаршированной бараньей лопаткой и тушеным перцем из Салоник, они лежали на узкой посеревшей простыне, и он читал. Чтобы успокоить его, Кристин разделась — теперь он мог не сомневаться, что у нее действительно дела. Чем дальше они уйдут от письма в «Светило», тем лучше, и он читал детским, чуть виноватым голосом, пытаясь одной интонацией вызвать дух Пуховой Опушки.
— «Глава Четвертая», — продолжал он, — «в которой Иа-Иа теряет хвост, а Пух находит» [45].
— Ты показывай мне картинки, когда дойдешь, ладно?
— Конечно, солнышко. — Его все еще носило после выкуренного косяка, но уже гораздо меньше. — «Старый серый ослик Иа-Иа стоял один-одинешенек в заросшем чертополохом уголке Леса. Широко расставив передние ноги и свесив голову набок, он думал о Серьезных Вещах. Иногда он грустно думал „Почему?“, а иногда „По какой причине?“…» — Гноссос читал, мотая из стороны в сторону собственной мохнатой головой, говорил разными голосами за разных зверей, показывал ей картинку, на которой Иа-Иа, просунув голову между передних ног, высматривает пропавший хвост.
— «… усталый и голодный, он вошел в Дремучий Лес, Потому что именно там, в Дремучем Лесу, жила Сова…»
Но то был не ослик Иа-Иа и не Сова — никто и ничто не знало этого имени, кроме тусклой и почти недоступной части его сознания, обволакивающей тьмы, где вероломным шепотом звучали осторожные предупреждения. Оно появилось в момент, когда отступил Иммунитет, и никакая броня, никакая оболочка не могли больше противостоять его силе. Оно набросилось, просочившись сквозь окна и двери, сквозь трещины в стенах и гнилостное дыхание унитаза. Оно несло в себе мощь и жестокую тягу к смерти, его злобное присутствие уже нельзя было игнорировать. Резко выпрямившись, они озирались по сторонам и держали друг друга за руки — жалкая иллюзорная защита; книга упала на пол и, подпрыгнув, захлопнулась. Изо ртов вырвались крики неудержимого ужаса — так мог кричать во сне первобытный человек, измученный примитивным, скрежещущим страхом. Но они не спали.
Пух, ради всего святого, бормотала она, неистово вцепляясь в его руку, здесь кто-то есть.
Кровь застыла у Гноссоса в чреслах, кожа на голове съежилась, словно по ней ползали чешуйчатые сороконожки. Чья-то гигантская рука выдергивала из-под них комнату, изо всех сил вталкивала ее в ночь, медленно закручивала и отправляла в пустоту эфира.
Кто здесь? окликнул он, но голос сорвался. Кто это?
Но двери и окна были закрыты, никогда не открывались, и вопрос был так же абсурден, как и само странное присутствие, свернувшееся вдруг кольцом в самом темном углу комнаты.
Господи, Пух, кажется, оно вон там сидит.
К кухонным ароматам примешивались теперь новые запахи: смрад разлагающегося жира, аммиачная вонь. Запах жег слизистые оболочки, огнем горел в пазухах, душил позором. Пока они прокашливались и протирали глаза, на ребра навалилась смутная смертная тяжесть. Вцепившись друг в друга, они с ужасом всматривались в пространство комнаты.
И тогда Гноссос тем же внутренним глазом, к которому он взывал всего несколько секунд назад, увидел, как на привычные предметы накладывается совсем другая разбухающая перспектива. Дикий прерывистый стон вырвался из легких, но не исчез, и все его тело судорожно сжалось.
Что, спросила она, дрожа и накручивая на пальцы волосы, что это?
Я видел, малыш, Господи, я видел его.
Боже мой, Гноссос, где, в комнате?
Он говорил едва слышно, зрачки резко расширились. У меня в голове, малыш, но на самом деле оно здесь. Ох, бля.
Послушай, Гноссос, послушай меня, ты слушаешь?
Он попробовал кивнуть, но ничего не вышло.
Я, кажется, тоже видела, правда, о, господи, это была пещера? Скажи, иначе я сойду с ума.
Он приложил палец к губам и произнес: мартышка.
Боже мой, Гноссос, да, из пещеры.
Как все мандрилы, промелькнула мысль, взбесившиеся, отвратительные, порочные…
Мне плохо, Гноссос…
Восточный горизонт, горы теряются в цвете и дымке, равнина, столовая гора…
Она повалилась на него, почти теряя сознание, тело стало мягким и податливым. Вонь в комнате была невыносима. В одну секунду он понял, что не может больше терпеть.
— Аннхх! — Гноссос соскочил с кровати, схватил кочергу, щелкнул лампой под абажуром из рисовой бумаги. Еще свет, еще и еще, пока не засияла вся квартира, никаких теней, все нараспашку. Он скакал в сваливающихся штанах, размахивая кочергой, волосы дыбом, кожа топорщится мурашками. — Давай, давай, скотина, давай…
Но не было ничего — кроме вони. Он бросился в кухню, высоко подбрасывая пятки, словно перепуганный сатир, потом в ванную — нигде ни одной темной лампочки. Наконец — к проигрывателю, в бешеном порыве он поставил увертюру к «Травиате». Но и это не помогло. Кристин очнулась со слабым стоном, и он принялся шарить по шкафам в тщетных поисках питья — постоянно оглядываясь через плечо.
— Оххххх, Гноссос, — позвала она и заплакала, — ради бога, кто это? Давай уйдем, пожалуйста… — Он бросил ей в кровать туфли и гольфы, а сам снова метнулся в кухню. Только без истерик, малыш, у меня расколется череп, если ты закатишь истерику. Под раковину, может здесь. В унитазе. Уходи же, Христа ради, прочь. Иииии.
Он открыл все краны и спустил воду в туалете, но оно не сдавалось.
— Оно хочет, чтобы мы ушли, Гноссос, — причитала Кристин, — неужели ты не чувствуешь, давай уйдем. — Ни на секунду не выпуская из рук кочерги, он натянул бейсбольную кепку, стащил с гвоздя рюкзак и схватил Кристин за руку. Они понеслись к двери, зацепившись по пути за складку на индейском ковре, затем — пять секунд паники у заевшего замка.
— О, Господи, что случилось, ты не можешь открыть, давай я подержу кочергу.
— Успокойся, ради Христа, не сходи с ума, спокойно.
Джордж и Ирма Раджаматту прижимались к стене коридора, явно зная о демоническом вторжении: лица белые, в глазах ужас, желтушные пальцы сжимают халаты у самого горла. Увидев их, Кристин издала нечеловеческий крик.