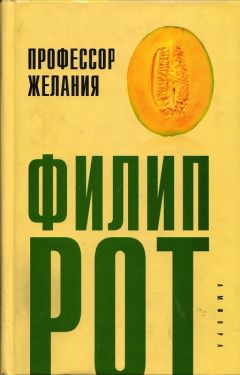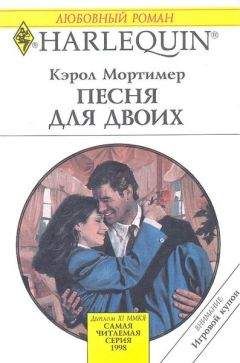— Ну, и что же это такое?!
— Ах, Дэйв, не думаю, что твоему папе понравится, если я тебе расскажу. И папе твоего папы, и так далее, до библейского прародителя, до Того, Кто Боролся с Богом. Кроме того, не исключено, что это навет, причем беспочвенный. Не исключено, что старуха придумала это со зла. Потому что ты ведь ее обидел. Отказавшись притронуться к ее знаменитой шизде, ты заронил ей в душу сомнения в смысле ее жизни, хотя все еще, наверное, можно поправить. Сильнее же всего она боится того, что ты, вернувшись в Америку, скажешь своим коллегам, будто она мошенница. И тогда серьезные ученые перестанут приезжать к ней, прекратят выказывать ей почтение, что, разумеется, обернется для нее сокрушительным фиаско и положит конец частному, если можно так выразиться, предпринимательству во всей стране. А это, в свою очередь, будет означать полное и окончательное торжество коммунизма над экономическим и политическим либерализмом.
— Что ж, если отвлечься от вновь обретенной чешской демагогии, которая, должен признаться, способна задурить голову любому, только не мне, так вот, если отвлечься от этого, ты, Братаски, не изменился ни чуточки.
— Плохо только, что я не могу сказать то же самое про тебя.
Тут Эрби подходит к старухе, лицо которой меж тем уже залито слезами, и, сложив ладони ковшиком, словно собирается поймать в них соленые капли, сует обе руки ей между ног.
— Кхо, — вырывается изо рта у престарелой Евы. — Кхо! Кхо!
Закрыв голубые глаза, она трется щекой о плечо Эрби. Кончик языка то и дело выпрыгивает изо рта. «Вкус апельсина спляшите», воистину..
По возвращении из странствий по прекраснейшим городам Европы (после того как в Праге мне приснился визит к старой проститутке, некогда обслуживавшей самого Кафку, мы вылетели в Париж, а еще три дня спустя в Брюгге на научной конференции, посвященной современной европейской литературе, я сделал доклад «Голодное искусство») мы решаем, разделив расходы на двоих, снять на июль и август домик в сельской местности. Что может быть лучше летом? Но, едва приняв решение, я погружаюсь в невеселые воспоминания о том, как и когда жил в последний раз в такой вот вынужденной круглосуточной зацикленности на одной женщине; я думаю об этом непрерывно — об этих безысходных, как могила, месяцах перед гонконгским фиаско моей жены, когда и ее, и меня бросало в дрожь от одного взгляда на любую вещь, принадлежащую другому (хоть на туфли на дне платяного шкафа), и это была дрожь отвращения. Поэтому, прежде чем подписать контракт на аренду безупречного во всех отношениях домика, который мы себе уже приглядели, я предлагаю Клэр не сдавать на те же два месяца наши нью-йоркские квартиры, как мы предполагали заранее, что, конечно, обернется для нас небольшой финансовой потерей, зато позволит сохранить за собой запасной аэродром, которым всегда можно будет воспользоваться при неблагоприятном повороте событий. Именно так я и выразился: «при неблагоприятном повороте событий». Клэр, рассудительная, терпеливая, нежная Клэр, разумеется, понимает меня правильно, когда я, уже с вечным пером в руке и договором об аренде передо мной, вдруг начинаю артачиться, а агенты по аренде недвижимости обмениваются недоуменными и безрадостными взглядами. Воспитывавшаяся борцами-тяжеловесами с рождения и до отъезда в колледж, к самостоятельной жизни, независимая молодая женщина с семнадцати лет, Клэр ничего не может возразить против «запасного гнезда», равно как и против временного гнездышка, которое нам предстоит делить, но только пока в нем будет хорошо обоим. Ладно, соглашается она, мы не будем сдавать наши квартиры. После чего, торжественно-мрачный, как японский главнокомандующий, подписывающий акт о безоговорочной капитуляции перед американским генералом Макартуром, я скрепляю своей подписью договор на аренду летнего домика.
Маленькая двухэтажная дощатая постройка, выкрашенная в белый, стоит на склоне холма, в одуванчиках и маргаритках, на полпути от его вершины до тихого проселка, по которому практически никто не ездит, и в тридцати километрах к северу от городка Кэтскилл, в котором прошли мое детство и отрочество. Я совершенно сознательно предпочел округ Салливан Кейп-Коду, и Клэр ничего не имеет и против этого: привязанность к Винъярду и Оливии уже не имеет для нее столь определяющего значения, как год назад. Что же касается меня самого, то приятноокруглые зеленые холмы и столь же зеленые горы на горизонте, вид на которые открывается из окон нашей спальни, словно бы возвращают меня в детство. И в детскую. Точь-в-точь то же самое видел я со своей мансарды в летней пристройке, и это лишний раз укрепляет уже испытанное мною в совместной жизни с Клэр ощущение: наконец-то я зажил в полном согласии с истинной своей натурой, наконец-то я «вернулся домой»!
Под стать моему прекрасному настроению и погода. Изо дня в день купаясь с утра и совершая пешие прогулки после ланча, мы набираем превосходную физическую форму, тогда как в плане духовном, напротив, нагуливаем жирок — чуть не такой же, как у здешних, славящихся своим салом, свиней. Какой пир духа уже в одной только утренней эрекции! И в оргазме — в залитой солнечными лучами белоснежной спальне, когда чувствуешь под руками ее крупное и живое тело. Ах, как мне нравятся в постели сами габариты Клэр! Ее осязаемость, ее реальность! И весомость ее грудей у меня в горстях.
Ах, как разительно отличается моя нынешняя счастливая жизнь от долгих унылых месяцев, когда по пробуждении мне нечего было обнять, кроме разве что подушки.
Позже — еще нет одиннадцати? в самом деле? — мы едим тосты, посыпанные сахаром и корицей, окунаемся, заезжаем в городок прикупить еды на вечер, лениво пробегаем взглядом первые полосы газет — еще только четверть одиннадцатого? — потом я устраиваюсь в кресле — качалке на крыльце и приступаю к ежеутренней писанине, то и дело поглядывая на Клэр, возящуюся в саду. У меня под рукой два блокнота, листы которых скреплены спиралькой. В один я заношу предварительные заметки к задуманной книге о Кафке (а называться она будет, как и прочитанный мною в Брюгге доклад. «Голодное искусство»), а в другой (страницы которого я исписываю с куда большим усердием и, несомненно, со значительно более заметным успехом) вношу всё новые и новые фрагменты лекции, пролог которой сочинил в пражском гостиничном кафе, историю собственной жизни в ее самых загадочных и сводящих с ума аспектах, иначе говоря, личную летопись ужасного, бесконтрольного и завораживающе прекрасного… или (таково на данный момент ее рабочее название) «Повесть о том, как Дэвид Кипеш дошел до сидения в плетеном кресле-качалке на затененном крыльце летнего домика в горах Кэтскилл и до взволнованного наблюдения за тем, как двадцатипятилетняя учительница средней школы, уроженка Скенектади, штат Нью-Йорк, самозабвенно погружается в уход за цветником, а одета она так, словно позаимствовала этот наряд у Тома Сойера, а волосы у нее на затылке стянуты зеленой ленточкой, какие она использует для подвязывания своих бегоний, и ее нежное и невинное лицо меннонитки, маленькое и умное, как мордочка енота, перемазано землей, как будто она готовится изображать воинственного команча на слете девочек-скаутов, и его счастье целиком и полностью у нее в руках».
— А почему бы тебе не помочь мне с прополкой? — окликает она. — Лев Толстой непременно помог бы.
— Он был профессиональным писателем и мог позволить себе оторваться от работы. У таких, как он, это называлось обретением жизненного опыта. Но мне это без надобности. Для меня достаточно любоваться тем, как ты приседаешь на корточки.
— Что ж, чем бы дитя ни тешилось.
Ах, Кларисса, знала бы ты, как я тешусь! Буквально всем. Прудом, в котором мы купаемся. Нашим яблоневым садом. Летними грозами. Барбекю. Музыкой. Разговорами в постели. Чаем со льдом по рецепту твоей бабушки. Свободой выбирать, какой тропой прогуляться с утра, а какой — после полудня. Тем, как ты наклоняешь голову, чистя персик или снимая обвертку с кукурузного початка… Тешусь, строго говоря, пустяками, но какими прелестными пустяками! Из — за таких пустяков разгораются мировые войны; лишившись таких пустяков, люди чахнут и умирают.
Разумеется, телесная сторона нашей страсти уже не такова, как в те первые воскресенья, когда нам до трех часов дня не удавалось выбраться из постели. «Увитая первоцветом тропа к безумью» — так сама Клэр когда-то назвала эти изнурительные упражнения, по завершении которых ноги нас не держали, как обессиленных путников, а ведь нам предстояло еще сменить постельное белье, постоять в обнимку под душем и выбраться на улицу — глотнуть свежего воздуха, прежде чем зайдет торопливое зимнее солнце. Да уже сам тот факт, что, едва начавшись, наши постельные скачки растянулись с неослабевающим неистовством чуть ли не на целый год, сам тот факт, что двое талантливых, обязательных и идеалистически настроенных преподавателей впились друг в друга клешнями, как пара морских животных, и в кульминационный момент вплотную подошли к тому, чтобы разорвать один другого в клочья, — сам этот факт превосходил все, на что я рассчитывал или хотя бы смел надеяться поначалу, уже имея за плечами опыт обретений, потрясений и потерь под кроваво-красным знаменем Ее Королевского Величества, моей похоти.