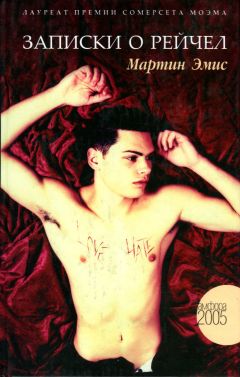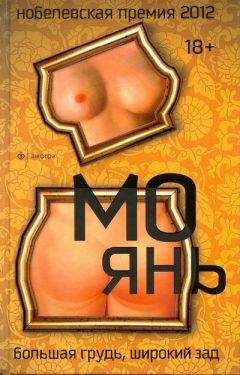Роясь в карманах в поисках носового платка, я наткнулся на письмо от Коко. Я с трудом вспомнил, кто это такая. Так или иначе, она извинялась за то, что ввела меня в заблуждение, сославшись на страну Несбыландию; это было выражение, которым Коко с подружками пользовались для приблизительного обозначения сферы человеческих фантазий или желаний; на самом же деле такого места не существовало. Что касается другого моего вопроса (смогу ли я ее трахнуть, когда она будет в Англии): «…Я не вполне уверена, что буду готова…» В качестве ответа я начерно набросал прозаический парафраз «Его робкой возлюбленной» Марвелла: «Если бы у нас было все время мира, твоя приличествующая скромность была бы вполне приемлема. Мы бы могли не торопясь все обдумать» etc., etc. Обычно подобные упражнения меня одновременно успокаивали и взбадривали. Но на этот раз не случилось ни того ни другого.
Я бродил по поезду взад и вперед, шатаясь в такт раскачивающимся вагонам: распотрошенные газеты, таящие инфекцию пирожки и несгибаемые сандвичи, одноразовые стаканчики с сероватым чаем, чумазые дети в сопровождении женщин, которых можно было принять за футболистов на пенсии, одинокие мужчины с постными лицами.
Я постучался и вошел в кабинет доктора Чарльза Ноуда. Я вовсе не был обнаженным, и адамово яблоко едва не выпрыгивало у меня изо рта. Если верить доске объявлений у входа, собеседование началось десять минут назад; сверкающий, неуместно нарядный привратник (к которому я попеременно обращался то «сэр», то «ваша светлость», как янки) лично сопроводил меня до нужной лестницы и объяснил, как найти кабинет. Я вошел, выкрикивая извинения.
Друг напротив друга, перед незажженным электрокамином, сидела парочка хиппи. Один из них, вероятно доктор, помахал мне рукой и, не поднимая глаз, сказал:
— Комната напротив. Пять минут.
В комнате напротив сидел еще один хиппи.
— Привет, — сказал я. — Что здесь происходит? Ты следующий?
— Как твоя фамилия?
— Хайвэй.
— Все верно. Я за тобой.
— Доктор Ноуд — это тот, у которого волосы подлиннее?
Он покивал, глядя прямо перед собой.
— Говорят, он клевый парень. Может быть, самый клевый в Оксфорде. На сегодняшний день. — Он снова начал кивать. — Семинары по Берримену. Снодграссу, Секстону. Чуваки вроде этих.
— Боже! О чем ты будешь ему рассказывать?
Он сжал кулак и покрутил им в воздухе, словно лениво угрожая кому-то.
— Если бы он дал мне рассказать о Роберте Дункане… Или, может, о Хехте…
Кто были все эти поди? Я не учил ни экстремистов, ни ливерпульцев.
Когда я расстегнул четыре верхние пуговицы на рубашке, снял галстук и повязал его вокруг лба, надел пиджак наизнанку (подкладка, слава богу, местами была порвана) и засунул брюки в ботинки, хиппи спросил:
— Эй, ты чего это делаешь?
— Что-то жарковато, — сказал я.
— Дану?
— Скажи-ка лучше, сколько ему лет. Не знаешь?
— Двадцать пять. Шесть. Он очень активный.
— Активный?
— Касательно реформ.
— Что это значит? — Позволить девушкам находиться в мужском общежитии до полуночи вместо одиннадцати тридцати? Подавать завтрак на десять минут позже? — Какого рода реформы? Политические?
— Ага. Именно что политические.
— О черт.
Дверь открылась.
— Хайвэй? — Второй хиппи сигналил бородой.
Я подскочил к нему.
— Это я.
— Ты следующий.
— Ну, как там было? — прошептал я.
Гэтти, так его должны были звать, остановился на ступеньках.
— Думаю, неплохо. Не бойся, он довольно дружелюбен. Просто лапа.
— О чем вы с ним говорили?
— О русских неосимволистах.
Доктор Ноуд сидел теперь на жестком подоконнике в дальнем углу комнаты, и декабрьский сквознячок шевелил беспорядочные завитки его волос.
— Вас не смутит свежий воздух? — спросил он без тени какого-либо прононса; его произношение было похоже на мое собственное.
— Отнюдь. Не возражаете, если я к тому же сниму пиджак?
— Отнюдь.
Я видел свои экзаменационные листы, лежащие у него на коленях. Они были сплошь исчирканы красным.
— Садитесь, — сказал он.
На пол. Нет, слишком откровенно — это будет уже перебор. Из дивана, двух кресел и табуретки я выбрал табуретку. Ведь Ноуд, продолжавший просматривать мою работу (впрочем, без излишней многозначительности) был в одежде городских партизан: неоднородно окрашенный в защитные цвета (зеленый и хаки) брезентовый костюм; солдатские ботинки свиной кожи; берет. Лицо и прическа Иисуса. Чтобы не стучать зубами, я тихонько мычал мелодию «Интернационала».
— Мистер Хайвэй… вы любите литературу?
Та-ак. Что за странный вопрос? Спроси еще:
«Какие книги вы прочли в последнее время?» или: «1Јакие у вас проблемы?»
Я улыбнулся.
— Что за странный вопрос?
— Прошу прощения? — Он взглянул на меня. — Но если я правильно понял вашу работу…
Меня бросило в пот. Я достал носовой платок.
Ноуд заговорил.
— Например. Отвечая на вопрос по литературе, вы жалуетесь, что Йетс и Элиот… «в свои поздние периоды предпочитали холодные достоверные факты, которые могли бы работать только за пределами нашего беспорядочного мира. Они расчетливо апеллируют к вымышленной концепции бесконечности…» etc., etc. Это, затем, позволяет вам написать роскошно звучащую строчку о «мнимой бесчеловечности» обольщения машинистки в «Бесплодной Земле»[18] — этой мыслью вы обязаны В. В. Кларку — и эта «бесчеловечность», непонятно с какой стати, внезапно оказывается «слишком безнравственной». Опять же, в вопросе по критицизму вы высмеиваете Лоренсовскую «неправдоподобную сексуальную мощь», используя статью Мидлтона Марри о «Влюбленных женщинах», также забыв на него сослаться. А уже в следующей строчке вы нападаете на его «упрощенческое приравнивание искусства и жизни».
Он вздохнул.
— Когда вы пишете о Блейке, вы не долго думая пересказываете строчки из «Грозного образа» про «автономные вербальные конструкции, которые неизбежно оторваны от жизни», тогда как в вашем эссе вы восторгаетесь «настойчивостью… с которой Блейк развивает и облагораживает наши эмоции, обходя стороной бутафорию и мишуру». Кстати, вы пробовали когда-нибудь обходить стороной мишуру? Или, если уж на то пошло, кого-нибудь настойчиво облагораживать?
Донн вначале оказывается молодцом благодаря своему «эмоциональному мужеству» и тому, как он «протягивает свои эмоции сквозь саму ткань стиха», а затем он уже вовсе не молодец, поскольку вы обнаруживаете… и что же вы обнаруживаете? — а, вот: «Нарочитое вознесение словесной игры над истинным чувством, подгонка своих эмоций под стихотворный размер». Так чему же верить? Честное слово, я не стал бы придираться, но эти высказывания взяты из одного и того же абзаца и относятся к одной и той же строфе.
Я не стану продолжать… У литературы есть своя собственная жизнь, понимаете? Непозволительно использовать ее так… безжалостно, в своих личных интересах. Или, может быть, я несправедлив?
В дверь постучали.
— Одну минуту, — отозвался он.
Я смачно харкнул в носовой платок и принялся изучать его содержимое. Ноуд встал, и я поднялся вслед за ним.
— Это и впрямь настолько?.. — я пожал плечами и уставился в пол.
Он протянул мне мои экзаменационные листы.
— Не хотите ли взять с собой? Я тут разобрал одно из ваших наиболее картинных эссе, возможно, вам интересно будет это прочесть. Сможете взглянуть на свою работу новыми глазами, посмотрите, с чем вы не согласны.
Я затряс головой.
— Ладно. Теперь. Я хочу, чтобы в последующие девять или десять месяцев вы заставили свою мысль хорошенько поработать — в любом случае, я намерен вас взять; если не я, то кто-нибудь другой все равно вас возьмет, и будет только хуже. Прекратите читать критиков и, ради всего святого, прекратите читать всю эту структуралистскую муру. Просто читайте стихи и старайтесь понять, нравятся ли они вам и почему. Ладно? Авось, остальное придет позже. Через несколько дней получите письмо. Попросите Лея зайти.
Очертания Оксфорда манили фальшивой безмятежностью в виде золотых камней на фоне ярко-голубого неба, от чего я, конечно же, отказался. Интересно, почему этот город считал себя столь неотразимым? Не задирай голову и твердо стой на ногах, и я не знаю, кто тогда сможет не заметить уродливую, обыкновенную, механичную, беспорядочную уличную жизнь магазинов, химчисток и банков. Как только ты перестаешь следовать глазами за архитектурными контурами, все становится таким же, как везде. Но Оксфорд думает иначе; в жизни не видел места, столь занятого собой. И ни один прохожий даже не взглянул на меня, когда я шел к вокзалу.
Проходя по Джордж-стрит, я остановился, поставил сумку на землю и поправил галстук. Затем я сделал то, что, как мне кажется, намеревался сделать с самого начала. Я свернул на Глостершир-Грин и спросил, когда будет ближайший автобус в деревню. Ближайший был через пятнадцать минут. Я почувствовал голод — такой, какого никогда еще не испытывал, — поэтому зашел в кафетерий и взял какую-то жидкую бодягу и омлет из ленточных червей (или омлет с беконом, как гласило меню). Затем я поехал домой.