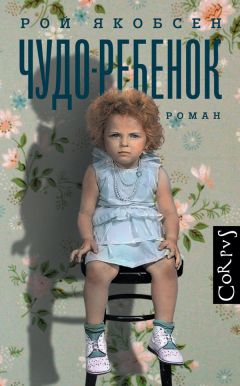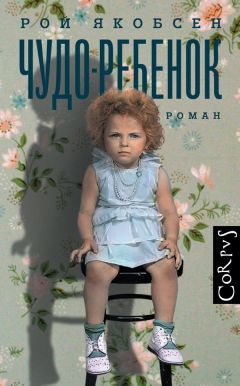Глава 30
Близилось лето, когда мне предстояло закончить гимназию, и тут пришло письмо, случайно попавшее мне в руки раньше, чем матери. Я посидел немного, разглядывая его. Адрес отправителя и получателя почему-то напечатаны на машинке. Штамп Осло. На внешний взгляд ничего необычного.
И вот почему я его не вскрыл?
Потому что никак не мог решить для себя, что было бы хуже — трагедия, написанная беспомощным почерком, или блистательно-солнечная история, уверенно выведенная твердой рукой. Вероятно, Линда попала в обитель скорби и ужасов, к идиотам, и они обращаются с ней ужасно, она гибнет.
От вероятности этого мозг горел огнем.
Или наоборот — она вышла из машины и была встречена своими новыми родителями: уравновешенной матерью и спокойным основательным отцом, ну и еще, значит, мальчиком моего возраста. Она крепко вцепилась рукой в два пальца матери, и ее новый брат, глядя на эту хватку, тут же понял нутром, что такая хватка сжимает петлей сердце навсегда, до гробовой доски, и не разжимается даже потом, когда уже гниешь в могиле.
С этого места все идет как по писаному: семья живет на втором этаже дома на две семьи, Линда ходит в старую известную школу в квартале, где каштановых деревьев больше, чем людей; ее учат учителя, умело вкладывающие в нее все нужные знания и умения; у нее появляются друзья, которые с первого взгляда понимают, по какому каналу вести для нее вещание. Летом она ездит на каникулы с Эйвинном и его родителями, живет не в горелой палатке, а на даче в месте, где их с Эйвинном ждет масса интересных занятий, в которые он терпеливо ее посвящает. Он оказывается отличным парнем, этот Эйвинн. Гораздо лучше, чем я. Так что, может быть, и правильно, что ее у нас украли.
И от такой возможности мозг тоже горит огнем.
А среднего пути не существует.
Я оставил письмо дома, а сам пошел и позвонил в дверь к Фредди I, который, после того как его родители расстались, в основном обретался в их старой квартире в одиночестве; мы прозвали его хазу Орлиным гнездом. Я знал, что он сидит там с Дундоном и нюхает клей; у Дундона волосы по пояс, его криминальная карьера начинает раскручиваться, она оказалась бы шире по формату, если бы он не так трясся своим мелким тельцем над тактикой, не разработав стратегии. Как обычно, Фредди I был рад меня видеть и сказал то, что он всегда говорил при наших редких встречах: что скоро он бросит нюхать и тоже пойдет учиться в гимназию.
— Или ты думаешь, я слишком тупой, Финн?
— Вовсе я не думаю, Первый, что ты слишком тупой, — отвечаю я на его широкую ухмылку, усаживаюсь рядом и рассказываю, что получил письмо от Линды.
— Вы Линду помните?
— Неа, — говорит Дундон.
— Помню, еще бы, — говорит Фредди I, неожиданно просияв.
— Мне в этой связи требуется совет, — говорю я, но долго хожу вокруг да около, прежде чем сообщаю, что я, собственно говоря, колеблюсь, показывать ли письмо мамке.
— А ты его прочитал? — спрашивает Фредди I.
— Нет.
Мы сидим, вспоминая всякие истории с Линдой, и, похоже, пытаемся разбередить в себе забытые, казалось бы, чувства, пока наконец я не добиваюсь своего рода “да” от Фредди I, поскольку мамка — единственная клевая тетка на Травер-вейен, и категорического “нет” от Дундона, который наркотически ёжится и говорит, что все, связанное с детством, следует растереть и забыть.
— Порви на фиг.
В тот день стояла жара. Скоро должны были наступить летние каникулы, начало еще одной тишины. Я снова вышел на улицу и поднялся на Хаган посмотреть на корпуса, мои горные цепи; посмотреть, не увижу ли я что-нибудь. И я увидел и детство, которое кончилось, и детство, которое навсегда там останется; два мира, не имеющих никакого отношения друг к другу. Удовлетворенный этим, я пошел назад домой, к письму, которое напомнило мне обо всех других письмах, что были получены и прочитаны в этой квартире со страхом и трепетом. Почерк у нее был округлый, девчоночий, безошибочный и устойчивый как скала, буквы выведены рукой, которая в свое время смогла поднять не одну только, но все палочки “микадо” с истерически пылающего кухонного стола.
Ей было хорошо там. Вообще-то можно было бы очень много рассказать о том, как именно ей хорошо. Но в своем заключительном вопросе она предъявляла нам своего рода обвинение, и это был тот же вопрос, который я и сам задавал себе много тысяч раз, но так и не осмелился задать мамке: почему мы так легко отпустили ее? Пусть даже ей вовсе не было у них плохо — но почему же, господи боже мой, мы так легко пошли на то, чтобы кто-то ворвался в нашу жизнь и украл детство? Тут мне еще вспомнилось, что когда я заканчивал школу на Синсен, я как-то попался на глаза Эльбе, и тот в последний раз пригласил меня в свой задымленный храм, потому что, сказал он, ему хотелось поделиться со мной одним наблюдением.
— Я работаю в этой школе с тех пор, как ее построили, — сказал он, улыбаясь своей желтой улыбкой, которую я так и не научился понимать. — И за все эти годы я ни разу не сталкивался с чем-либо подобным тому, что ты и этот твой странный приятель учинили, когда обидели твою сестру. Ни разу.
Я не понимал, к чему он клонит.
— Это совершенно непозволительно, — сказал он, — избить парня чуть не до полусмерти. Но, — продолжал он после недолгой паузы, — дети так не поступают.
— Чего?
— Дети не вступаются друг за друга таким образом, даже за братьев и сестер.
Вид у него был такой, будто он сейчас произнес нечто весомое.
Я, однако, сумел только повторить свое извечное “чего”. И он начал уже проявлять нетерпение.
— Так что, может быть, все это было вовсе и не так?
— Как не так?
— Что вы якобы накинулись на него, чтобы защитить твою сестру? Может, еще из-за чего-нибудь?
До меня дошло, наконец.
— Будто мы просто хотели его вздуть?
— Ну, например.
Он встал и стоял, жестикулируя сигаретой.
— Ну ладно, может быть, — пошел я ему навстречу, но со знакомым чувством, которое, я уж думал, Линда увезла с собой насовсем, потому что если бы Фредди I не разбушевался в тот вечер посильнее меня и не сорвался полностью с катушек, то это сделал бы я, и Дундон уже никогда бы не поднялся. Но Эльба желал услышать совсем другое. Да я и не был уж настолько уверен в своем деле, в том, что я способен на подобное.
— Ну ладно, ладно, — сказал он. — Пусть будет так.
Я стоял на балконе до тех пор, пока из-за второго корпуса не вывернула мамка в своем новом наряде — юбке, блузке и коротком светлом пиджачке; она миновала перекладину для сушки белья и поднималась по выложенной плитняком дорожке к входной двери: красивая походка, целенаправленная и аккуратная. Еще было время заскочить внутрь и спрятать письмо. Но я оставался на балконе, пока не услышал сначала ключ в замке, а вскоре и ее голос уже из квартиры:
— Ты картошку не ставил?
— Нет, — крикнул я в ответ. — Нам письмо. На кухонном столе лежит.
Тишина затянулась. Наконец она вышла на балкон с письмом в одной руке и чашкой кофе в другой, села на складной стул, а ноги положила на табуретку, на которую я вставал, когда в детстве мыл посуду. Она уже побывала в ванной и смыла косметику и, возможно, не только ее, потому что она уже давно перестала показываться мне в слезах; она была красивой, успешной женщиной с подправленным детством, директор филиала, с порядком в бухгалтерских делах — и вообще в полном порядке, на взгляд жильца из дальнего угла съемной комнаты.
— Господи, — сказала она, не поднимая глаз от письма.
— Ты собираешься ей отвечать?—спросил я, когда продолжения не последовало.
— Разумеется.
— Я имею в виду — ты собираешься ответить на ее вопрос?
— Разумеется,—повторила она. И перечитала письмо еще раз.
— И что ты думаешь ответить?
Она подняла глаза, но на меня не посмотрела.
— Ей и тут тоже могло быть хорошо, — сказала она задумчиво. — Но я этого тогда не знала. Поэтому я, может быть, ничего и не сделала...
— Так это что, хорошо, что ее забрали?
— Я этого не говорила, — сказала она, поднялась и вцепилась руками в балконную решетку, устремив взгляд на гору Эсси. — Просто по бумагам у нас все было хуже некуда.
Я обернулся. И теперь она смотрела на меня. — Они о нас знали всё.
— Чего?
Опять то же выражение, которое появляется у нее на лице, когда я не понимаю очевидного.
— Жилец? — понял я, однако. Она кивнула.
— Не знаю уж, что он думал. Но я пробовала... ее искать — один раз.
— И ничего мне не рассказала?
— Ты же был еще совсем ребенок, Финн.
Я задумался над тем, был ли я когда-нибудь ребенком, и отметил при этом, что никто из нас не называл жильца по имени с тех пор, как он от нас съехал; но я, собственно, всегда знал, что Кристиан — трамвайный кондуктор и моряк, инструментальщик, строительный рабочий и предприниматель, владелец палатки и философ износа в поплиновом пальто, — Кристиан даже и на лыжах не мог плюхнуться так, чтобы из него не высыпалась вся правда.