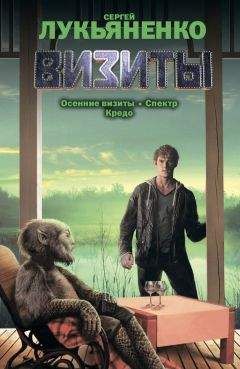– Ладно, – вдруг решила спуститься с небес на землю Элька. -
Выпьем же за то, чтобы ты поскорее последовал за своим сыном.
Подняв рюмки с водкой “Кегелевич”, они смотрели на меня самого, словно мудрые добрые родители на еще не вполне образумившегося блудного сына. Судорогу обиды немного отпустило, и я постарался как можно проще сказать, что Дмитрий, возможно, еще переберется в Канаду. Мудрые папа и мама мгновенно погрустнели и понимающе переглянулись.
– Мы здесь считаем, – сочувственно объяснила мне Элька, как хорошему человеку, по неведению сморозившему что-то бестактное,
– что к стране непорядочно относиться прагматически – если где-то лучше живется, значит, можно туда ехать.
Пардон, пардон – но когда это же самое вам говорили в России, вы называли это покушением на свободу передвижения или как там его, а когда понадобилось защищать ваш собственный фантом… Я наливался холодом, и от прямых заявлений меня удерживало, кажется, уже не столько старое приятельство, сколько опасение рубануть что-то несправедливое – их зигзаг от скепсиса к пафосу был настолько внезапным, что было бы непорядочно высказываться без серьезного обдумывания.
А может, и обдумывать здесь нечего – просто надо всем желающим разъехаться под сени собственных фантомов, – тогда и страсть оплевывать чужие поослабнет. Косности будет больше, а взаимной злобы меньше. Не надо перемешивать народы – не трожь этого самого, фантомов, я хочу сказать – не так сильно будет смердеть дохлятиной.
– Это в совке так можно было рассуждать, – постарался разрядить мое напряжение Илья, – у пролетариата, мол, нет отечества.
– Я больше не могу этого слышать: в совке, в совке, в совке, в совке!.. – В комнату ворвалось и закружило вокруг стола по-совиному нахохлившееся на своем помеле серое существо. Оно, точнее, она наверняка и в тот миг была в тонконогих джинсиках и свитерке, но фантом ее навеки запечатлелся бахромчатым плащом дервиша, развевающимся за ее плечиками рваным серым пламенем.
– Когда мужик в России писает на улице – это свинство, а здесь – древняя мудрость, галаха!.. Да если б хоть приперло его – пописал и побежал, так нет – он еще обтряхиваться будет полчаса!
Я одному не выдержала – ты что, говорю, себе позволяешь?! Так этот кипастый мудила еще на меня наорал: у него, видите ли, от моего крика детей может не быть! У тебя их, говорю, и так в десять раз больше, чем нужно! А у моих папахера с мамахером уже и штаны подтянуть – это совковость, у здешнего жлобья излюбленная манера устраивать сзади декольте – свобода, блин, эх, эх, без креста!..
Только тут я наконец узнал их дочь Софью. “Мудила” – передовая барышня… Тот факт, что она не была приглашена к столу, а также и сама не вышла к старому другу дома, я оценил несколько позднее.
– Я постоянно занимаюсь социологическими опросами, – круги вокруг стола сменились челночным рысканьем параллельно его оси,
– и уже заранее знаю: если о чем-то спрашиваешь русского – мы же здесь русские, вы не знали? – он будет колебаться, раздумывать…
Понимаете? Это совковая зажатость, когда человек не хочет врать, чего не знает! Ну а сабра – тот свободен, как ветер, у него есть готовое мнение на все случаи жизни, если даже о проблеме услышал секунду назад. Во всем мире это называется наглостью, а у моих папахера с мамахером – раскрепощенностью. Конечно, при такой раскрепощенности они ни хера ни о чем не будут знать! Зачем еще чего-то узнавать, если ты уже и так все про все знаешь!
Она наконец рассталась со своим помелом, и мне удалось немного разглядеть ее. Еврейского в ней было даже меньше, чем в Эльке, – только верхние резцы излишне обнажались, как на юдофобской карикатуре, – однако, оседлав свой небольшой с горбинкой носик велосипедными выпуклыми очками да еще и работая под горбунью, она сумела превратить себя в типичную еврейскую ученую сову.
Элька смотрела на нее с натянутой снисходительной улыбкой – как поздно, мол, взрослеют нынешние дети!.. Илья тоже улыбался в уже не демократическую, а ухоженную бороду:
– Знаешь, на кого ты похожа? Меня недавно подвозил таксист из
Тибилиси, он тоже возмущался: здесь нэт культура! Ты же имеешь дело со здешним плебсом, а говоришь обо всех: здесь нэт культура!
– Может быть, может быть, может быть… И я имею дело с плебсом, и вы имеете дело с плебсом, и он, она, они тоже имеют дело с плебсом – мы же здесь все заперты в гетто для плебса! Но я по крайней мере не вылизываю этому плебсу задницу, не называю хамство свободой! Я ведь тоже, – она вперилась в меня своими совиными окулярами, – пробовала преподавать. Так я каждый раз останавливалась перед дверью и начинала твердить: сейчас я заработаю шестьдесят шекелей, шестьдесят шекелей, шестьдесят шекелей… Двойной гонорар Иуды Искариота. Это правда, они не злые, они будут вытирать об тебя ноги без всякого зла. Не ведают, что творят.
– Ну, какое гетто, какое гетто! – Обида смыла следы снисходительности с Элькиного лица. – Это в России было гетто – спроси у отца: устроиться на работу, защитить диссертацию – везде на тебя смотрели вот в такую лупу! – Она обрисовала нечто вроде сковороды.
– Смотрели, потому что уважали! Считали своими соперниками, властителями дум, аристократами! Да вы там и были аристократы: ведь у интеллигенции не партийные органы, а вы задавали тон, скажешь нет? Вы входили в круг законодателей интеллектуальной моды – что, не так? Вас потому и ущемляли, что видели в вас опасных конкурентов, а здесь вас в упор не замечают, у них своих умников выше крыши! Ой, но только не говорите мне про вашу русскую партию!!! Да, она заставила с собой считаться – но как со взбунтовавшимся плебсом, не более того! Зато на культурные наши, извините, запросы здешнему государству плевать со Стены
Плача – что, не так, что ли?!
– Нет, все-таки всему есть граница! – Наконец-то мне открылась святая святых – Илья в гневе: добрались наконец-то и до его фантома. Правда, по столу он ударил все же лишь кончиками пальцев. – Это самое государство выделило тебе деньги на издание твоих опусов, а ты… В России ты бы до сих пор по редакциям тыкалась!
– Ну и что? В России тебе тоже дали бесплатное образование, только ты по этому поводу что-то не очень склонен… Да, выделили подаяньице, не спорю. А тираж хочешь в шкаф сложи, хочешь в сортир на гвоздик повесь – свобода, блин!
– Ну, в этом, знаешь ли, никто…
– Я знаю, что никто. Если живешь в стране с чужой культурой… Я не говорю, что здесь нэт культура – здесь ест культуры. Да только ей до нас нэт никакого дела. А нам до нее. Русская поэзия будет жить в этой ужасной, варварской, коррумпированной, не знаю еще какой, но в России, все, что там пишется, вливается в реку, которая текла тысячу лет и будет течь еще тысячу, а мы здесь…
– В грязную, кровавую реку! – сверкала глазами Эля.
– Да, и в грязную, и в кровавую, и в отравленную, но и в родниковую, блин, – только синь, блин, сосет глаза! Она перемешанная. Как вся реальная жизнь, а не лаборатория, в которой мы делаем вид, что живем! Мандельштам, Пастернак,
Бродский, хотите вы или нет, будут течь в той реке, а не в нашей! Хотя бы уже потому, что ее просто нет – мы живем и видим собственный конец. Мы знаем, где прекратится наше, извините за совковость, духовное наследие – на наших детях, у кого они есть.
Если не раньше.
Когда люди начинают догадываться, что спор ведется не о фактах, а о фантомах, до них начинает понемногу доходить, что оппонентов надо либо убить, либо оставить в покое: вечер мы закончили в духе столь выдержанной политкорректности, что я готов был запроситься обратно к невестке.
Однако при хорошем снотворном не страшны даже такие неотвратимые мнимости, как сны. Но и лег я, и встал все с той же – поверх всего – тяжестью на душе: Юлей. И постиг наконец, почему я не должен ее ампутировать, – пусть и она тоже будет хоть чьим-нибудь фантомом.
Я сразу понял, что со мной говорит младшая Славкина дочка, – такой картавости из России было бы не вывезти: “Мама еще не пххгишла из ххгаботы”. А вот Сэм Трахтенбух как будто только что освободился от трехлетней пытки молчанием – тарахтел, будто обычный добрый малый. (Я-то, нехороший человек, и позвонил-то ему только ради поддержания фантома Парень с Нашего Курса…)
Жирная чеканность его профиля чрезвычайно соответствовала его манере не беседовать, а ставить собеседника в известность.
Столкнувшись с ним в Публичке максимум три месяца тому, я и вопросов ему не задавал, чтобы не доигрывать отводимую им роль почтительно внимающего интервьюера, но Сэму такие ухищреньица были как слону горчичник. Он известил меня, что рано или поздно покидать родину, равно как и родительский дом, хотя и страшновато, но необходимо, без этого невозможно повзрослеть, – да и вообще не имеет значения, из какого окошка ты выпал в этот мир. Вступать с Сэмом в споры можно было лишь для того, чтобы еще раз убедиться, насколько ты ему неинтересен.