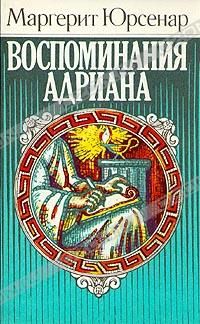Ознакомительная версия.
Амур, наимудрейший из богов… Но любовь не была повинна в моем небрежении, в моей суровости, в моем равнодушии, смешанном с обожанием, как песок смешан с золотом, уносимым рекой; любовь не была повинна в грубом ослеплении чересчур счастливого человека, который уже начал стареть. Неужто я был так самодоволен и туп? Антиной умер. Далекий от того, чтобы любить его чрезмерно, как, должно быть, в эти мгновения в Риме утверждал Сервиан, я не любил его в достаточной степени, чтобы заставить мальчика жить. Хабрий, который в силу своих орфических взглядов считал, что самоубийство преступно, настаивал на жертвенности этой кончины; я сам испытывал нечто похожее на чудовищную радость, когда говорил себе, что эта смерть была принесена мне в дар. Но только один я был способен измерить, сколько едкой отравы таится в глубинах нежности, какое отчаяние скрыто в самопожертвовании, сколько ненависти примешивается к любви. Оскорбленное существо бросило в лицо мне свидетельство своей преданности; ребенок, боявшийся все утратить, нашел способ привязать меня к себе навсегда. Надеясь благодаря этой жертве защитить меня от ударов судьбы, он, должно быть, считал себя очень мало любимым, если не понял, что не было для меня на свете беды страшнее, чем потерять его.
Я больше не плакал; являвшимся ко мне сановникам больше не приходилось отводить свой взгляд, словно в моей скорби они усматривали что-то непристойное. Возобновились мои посещения показательных ферм и оросительных каналов; мне было безразлично, как убивать время. Сотни нелепых слухов о постигшей меня беде уже разнеслись повсюду; даже на кораблях, которые сопровождали меня, передавались из уст в уста, к стыду моему, ужасные истории; я не пресекал этих слухов, поскольку правда была не из тех, чтобы кричать о ней на каждом углу. Самые лживые версии по-своему были верны; меня обвиняли в том, что я принес его в жертву, но ведь в каком-то смысле именно это я и сделал. Гермоген, неукоснительно доносивший до меня отклики внешнего мира, передал мне несколько посланий от Сабины; она соблюдала все правила приличия; люди почти всегда поступают так перед лицом смерти. Ее сострадание покоилось на недоразумении: она согласна была меня пожалеть, но лишь при условии, что я быстро утешусь. Сам я считал, что почти спокоен; мне от этого было даже как-то неловко. Я не знал, что у боли есть странные лабиринты и что я по-прежнему блуждаю по ним.
Меня пытались развлечь. Через несколько дней после прибытия в Фивы я узнал, что моя супруга со своей свитой дважды приходила к подножию колосса Мемнона в надежде услышать таинственный звук, издаваемый на рассвете камнем, — феномен, присутствовать при котором мечтают все путешественники. Однако чуда не произошло; суеверные женщины предположили, что оно произойдет в моем присутствии. На другой день я согласился сопровождать их к колоссу; все средства хороши, если они помогают сократить нескончаемо долгие осенние ночи. В то утро Эвфорион вошел ко мне в одиннадцатом часу, чтобы подлить в лампу масла и помочь мне одеться. Я вышел на палубу; небо, еще совсем черное, было и вправду бронзовым небом гомеровских поэм, равнодушным к радостям и бедам людей. Прошло более двадцати дней с тех пор, как это случилось. Я занял место в лодке; короткое путешествие не обошлось без испуганных женских криков.
Нас высадили неподалеку от колосса. На востоке протянулась бледно-розовая полоса; начинался еще один день. Таинственный звук раздался три раза; он походил на звон лопнувшей тетивы. Неистощимая Юлия Бальбилла мгновенно произвела на свет стихи. Женщины решили посетить храмы; некоторое время я шел рядом с ними вдоль длинных стен, испещренных однообразными иероглифами. Меня выводили из терпения эти колоссальные фигуры царей, неотличимо похожие одна на другую, сидящие бок о бок, выставив вперед свои длинные плоские ступни, раздражали эти инертные глыбы, которые совершенно не выражали того, в чем заключается для нас жизнь, — ни боли, ни неги, ни расковывающего нас движения, ни раздумья, создающего целый мир вокруг опущенной головы. Жрецам, которые меня вели, об этих канувших в вечность жизнях было, должжно быть, известно не больше, чем мне; порою они принимались яростно спорить по поводу того или иного имени. Они знали, что каждый из этих монархов унаследовал трон, управлял своим народом, родил преемника; ничего больше история не сохранила. Эти затерянные в веках династии восходили к временам более давним, чем Рим, чем Афины, чем день, когда Ахилл погиб под стенами Трои, более давним, чем астрономический цикл в пять тысяч лет, вычисленный Меноном для Юлия Цезаря. Почувствовав себя усталым, я отпустил жрецов; прежде чем вернуться на судно, я немного отдохнул в тени колосса. Его ноги были до самых колен покрыты греческими надписями, которые оставили путешественники, — имена, даты, молитвы, некий Сервий Суавис, некий Евмен, стоявший на этом месте за шесть веков до меня, некий Панион, посетивший Фивы полгода назад… Полгода назад… Мне в голову пришла вдруг фантастическая идея: впервые с тех пор, когда ребенком мне случалось вырезать свое имя на коре каштановых деревьев в испанской усадьбе, император, который не разрешал выбивать свое имя и почетные звания на воздвигнутых им монументах, взял кинжал и нацарапал на твердом камне несколько греческих букв — сокращенную форму своего имени: ADRIANO. Это было моим противодействием натиску времени: человек, затерявшийся в нескончаемой веренице столетий, оставлял свое имя, подводил итог жизни, бесчисленные элементы которой не поддаются учету, оставлял свою мету. И внезапно я вспомнил: начинается двадцать седьмой день месяца Атира, через пять дней у нас наступят декабрьские календы. Это был день рождения Антиноя; если б мальчик был жив, сегодня ему бы исполнилось двадцать.
Я вернулся на борт судна; рана, затянувшаяся слишком быстро, снова открылась; я кричал, уткнувшись лицом в подушку, которую подложил мне под голову Эвфорион. Нас обоих — тело умершего и меня — несло по течению, два потока времени уносили нас в противоположные стороны. Пять дней оставалось до декабрьских календ… первый день месяца Атира… каждый уходивший миг все глубже погружал это тело в небытие, все больше окутывал его смерть непроницаемой завесой. Я вспять поднимался по скользкому склону; я ногтями вырывал из земли этот мертвый день. Флегонт сидел лицом к порогу; бесконечная ходьба взад и вперед по каюте помнилась ему только как яркая полоса света, бившая ему в глаза всякий раз, когда рука юноши, сновавшего по каюте, толкала створку дверей. Подобно человеку, обвиненному в преступлении, я пытался припомнить, чем был занят на протяжении этого дня; я диктовал, я отвечал эфесскому Сенату; с какими моими словами совпала его агония? Я восстанавливал в памяти все: мостки, прогибавшиеся под торопливыми шагами, крутой выжженный берег, плиточный пол; нож, перепиливающий прядь волос у виска; наклонившееся вперед тело; нога, которая сгибается, чтобы можно было развязать сандалию; неповторимая манера раздвигать губы, закрывая глаза. Хорошему пловцу нужна была отчаянная решимость, чтобы захлебнуться в этой черной воде. Я мысленно пытался дойти до этой черты, которую рано или поздно мы все переступим — оттого ли, что остановится сердце, или откажет мозг, или легкие перестанут дышать. Мне тоже придется испытать нечто подобное; однажды я тоже умру. Но все агонии разные; мои усилия представить себе, как он умирал, были бесплодны: он умирал один.
Я сопротивлялся как мог; я сражался с болью, как с гангреной. Я вспоминал его упрямство, его ложь; я говорил себе, что ему предстояло перемениться, обрюзгнуть, постареть. Все было напрасно: как ремесленник тщится, изнемогая, скопировать образец высокого искусства, так я в неистовстве требовал от своей памяти быть скрупулезно точной; я пытался воссоздать эту грудь, высокую и выпуклую, как щит. Временами образ сам возникал вдруг перед моими глазами; меня подхватывала волна нежности, я снова видел сад в Тибуре, видел эфеба, собирающего осенние плоды в свою подвернутую тунику, точно в корзину. Пустота наступила для меня во всем: мне не хватало товарища по веселым ночным гуляньям, молодого человека, который, присев на корточки, помогал Эвфориону поправить складки моей тоги. Если верить жрецам, тень тоже страдает и оплакивает теплый приют, каким для нее являлось тело, и со стоном навещает родные места, — тень далекая и в то же время близкая и такая вдруг слабая, что ей не под силу дать мне знак о том, что она рядом. Если все это правда, то моя глухота хуже, чем смерть. Но разве в то утро я понял его, живого, когда он рыдал подле меня? Однажды вечером меня позвал Хабрий, чтобы показать мне в созвездии Орла звездочку; до сих пор она была едва различима, но вдруг засверкала, как драгоценный камень, и стала мерцать и биться, точно сердце. Ее я счел его звездой, его знаком. Каждую ночь, изнуряя себя, я наблюдал ее путь, и мне виделись странные фигуры в этой части неба. Меня считали безумным. Но это мало меня заботило.
Ознакомительная версия.