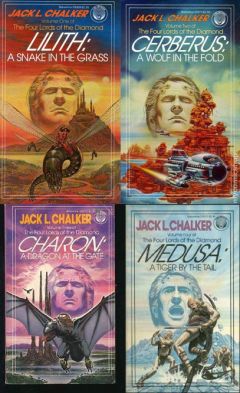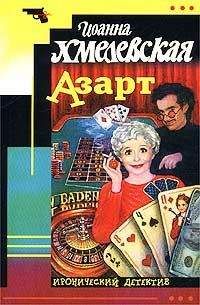— Пол вставлен, ты посмотри, — бросил хозяин. — Месяц сидел зимой. Летом некогда заниматься, пасека… И медведь тут меня тревожит… Давно хотел познакомиться с тобой, Вежин рассказывал…
— Ювелирная работа…
— Да, ничего вышла церковка, — проронил он. — Самому не верится… Но это же копия! Хорошо сделанная копия… Наш век — век копиистов. Подражатели мы, обезьяны…
Виктор Васильевич расхаживал, босым по чистым, отскобленным половицам. Ступни ног его были узкие, длинные и сухие — верный признак человека, выросшего в квартирно-дачных условиях. Не бегал, он босым по лесам, по камням и пашням…
— Кстати, ты когда собрался переезжать в Стремянку? — вдруг спросил он и, не дав ответить, добавил: — Когда переберешься, я тебе еще кое-что покажу… Но все это — увы — не искусство! Мы же растеряли, растрясли свое искусство, на чужое бросились… А вот мастер, который в натуре эту церковку поставил, с одним топором, — вот он творил искусство. Нам не дано, мы нынче — беспросветная серость.
— Я бы не сказал, — улыбнулся Сергей. — Сделать такую копию…
— Ты погоди, не перебивай, — Виктор Васильевич пригласил к столу. — Слушай и не проводи никаких параллелей… Появляется на свете гений — не важно, с топором, с кистью или пером, — творит чудо, создает целую школу, тянет за собой несколько поколений. Но кому он нужен, гений, кроме своих учеников? Никому. Потому что рядом расцветает буйная серость. И как только она не реанимирует свою мертвечину! Какое только искусственное дыхание ей не делает — и в рот, и в нос, и… И процветает! И гений ей не нужен!.. У меня есть одна знакомая, между прочим, писательница. Женщина уже в возрасте. Вот она так все объясняла: горы состоят из вершин, хребтов и впадин. Гении — это вершины, а мы — все остальное: взгорки, бугры, овраги и пропасти в том числе. Поэтому мы имеем полное право на существование, иначе не будет гор. Не могут же горы состоять из одних пиков? Абсурд!.. Не плохо, да? Главное, базу подвести под себя, и живи на здоровье. Она так и делала: выпускала свою серую продукцию, поддерживала всех серых и пальцем не шевельнула, чтобы хоть на склон забраться. Устраивали бугры в долине… Ладно, это не важно. Что дальше? Гений уходит, и тогда вся серость начинает кричать о нем на каждом углу. И сама вроде приобщается к гениальному. Опять неплохо… Но к концу века накапливается новая энергия гениальности. Происходит взрыв! Он рождает нового гения, и все повторяется сначала. Но в наше время обольщаться не приходится, хотя мы и живем в конце старого века. Так сказать, на пороге взрыва… Взрыва не будет. Улавливаешь мысль?
— Пока нет, — замялся Сергей. — Вернее, понимаю, но…
— Тогда слушай дальше, — прервал хозяин. — Объясню популярнее… Возьмем пчелиную семью. Пока цветут цветы, пока у пчел есть взяток — они не роятся. Природа мудра. Они работают. Они засеянную детку[3] выбрасывают и ячейки забивают медом. Для них важнее труд, пища. Но вот отцвели в саду цветочки, взятка нет, и тут начинается роение. Бунт начинается в семье, разделение! Матку новую выкормили! Матку, понимаешь? Сами ее выкормили!
— Странно, а у моего отца пасека какая-то, — снова замялся Сергей. — Они в любое время роятся. Он уж замучился, жаловался…
— Это исключение, которое подтверждает правило, — заметил Виктор Васильевич. — Так вот, наш век на исходе, а мы роиться не собираемся. Взрыва не будет! Нам свою матку не выкормить. Молочка у нас нет, фермента! Растеряли мы его, на копии обменяли.
Он встал, озабоченно выглянул в окно и, извинившись, куда-то вышел. И скоро под потолком медленно раскалилась нить лампочки — на улице темнело.
— Да будет свет! — сказал Виктор Васильевич, вернувшись. — Кстати, у твоего отца старец живет…
— Знаю, знаю, — упредил Сергей. — Я уже подумал о нем.
— Интересный старец! Над ним смеются, считают, из ума выжил, но мне нравится он… Страдание за свой народ. А ну найди нынче такого чудака, который бы в монахи пошел за народ?
— Да, — грустно усмехнулся Сергей. — Сегодня только к народу рвался… А народ в очереди стоял, в магазин. Правда, чужих много…
— Забыл добавить, — спохватился хозяин. — Ты подумал, что я ни во что не верю… Знаешь, мне люди в Стремянке нравятся. Буянистый народ, бесшабашный, энергию девать некуда. Ну, еще и с жиру бесятся… А надо дело делать. Мы много чего понимаем, но ничего не делаем… Вот ты, к примеру. Что ты сделал в своей жизни? Диссертацию защитил? А кому она нужна, кроме тебя? Науку сдвинул?.. Ничего ты не сдвинул. А сам сдвинешься там, это точно.
— Вы меня хотите в чем-то убедить? — спросил Сергей.
— Да ты сам уже убедился. Теперь не тяни, переезжай в Стремянку. Возьмешь у отца пчел на развод и ставь пасеку. Я тебе место подыщу где-нибудь поближе. Будем жить на природе, возле пчел.
— Я как-то возле людей больше привык, — засмеялся Сергей. — Да и с пчелами никогда не работал.
— Научишься! — бросил Виктор Васильевич. — Дело не хитрое. Будешь заниматься своей наукой и пчелами. Во-первых, у тебя будут деньги, а значит, и руки себе развяжешь.
Сергей молчал.
— Я тебя не тороплю, — сказал Виктор Васильевич. — Этого сразу не объять умом. С этим нужно сжиться, чтобы поверить.
— Вы никогда не занимались каратэ? — спросил Сергей. — Или йогой, дзэн-буддизмом?
Виктор Васильевич рассмеялся.
— Это наши идеологические антиподы?
— Ваши?.. Значит, вас уже несколько или… много?
— Есть люди, которые разделяют эти идеи, — уклончиво ответил хозяин. — В частности Сергей Петрович Вежин, твой учитель… Ты оставайся у меня. Время — полночь, дорога незнакомая. А я тебе кое-что еще расскажу.
— Ладно, — пообещал Сергей и встал. — Я воздухом подышу.
— Только к проволоке не подходи, — вслед предупредил хозяин. — Я уже ток пропустил…
Сергей прикрыл за собой дверь и долго стоял, осмысливая эту его последнюю фразу. Потом спустился с крыльца и тыльной стороной ладони тронул проволоку. Удар был коротким и сильным, так что отбило руку. Тогда он осторожно отворил калитку, придержал ее, чтобы не хлопнула, и сел в машину. Ему казалось, что стартер визжит очень громко, а свет фар и в Стремянке видно. На какой-то миг он совершенно серьезно ощутил, что чего-то боится, чего-то ждет — выстрела сзади или окрика. Он выключил фары и, оглянувшись, поехал по колеям незнакомой дороги. После яркого света он вообще ослеп в темноте, залетел в какую-то яму, наскочил на пень и, преодолев этот детский страх, все-таки зажег подфарники. В их бледноватом свете колючая проволока на ограждении казалась толщиной в канат, и тень от нее расчерчивала землю, как тетрадный лист…
Перед защитой кандидатской, когда уже все было готово, Сергей вдруг не на шутку засомневался. Он перечитывал диссертацию, доклад и начинал бубнить, что его обязательно зарубят, смахнут головенку если не на защите, то в ВАКе. Рецензенты уверяли, что все будет в порядке, даже кое-что пойдет на «ура», приятели говорили, мол, дурак, давай быстрее на защиту, пока не перешибли тему, пока не разворовали и не выщипали козырные мысли и факты, но сомнения мучили еще больше. Он уже и вычитать только что отпечатанную диссертацию не мог, взгляд останавливался на ее заглавии, на строчках, которые шли после слова «тема».
А тема была интересная, острая и свежая — «Самореализация личности в произведениях русской классической литературы». Все было построено на грани, на стыке литературоведения и философии, и звучало очень современно, так как все науки в последнее время бросились искать новое именно на этих гранях и стыках. Взгляд натыкался на самую тему и дальше не шел, дальше все казалось пустым и никчемным, потому что, окажись сейчас на его месте Коля Гребнев, с которым их когда-то столкнула судьба, — возможно, все бы сделал иначе. Именно перед защитой Сергею чаще всего вспоминался этот бесшабашный парень Коля Гребнев, неожиданно появившийся и так же исчезнувший три года назад.
После университета Сергей два года ждал аспирантуру. Уже была и тема — та самая, «самореализация личности…», был научный руководитель Иван Поликарпович, профессор из бывших шахтеров. То ли от прежней работы в забое, то ли под грузом кафедральных забот ходил он всегда сгорбленным, так что его мощные руки как бы болтались впереди туловища. К Ивану Поликарповичу относились уважительно, хотя многие недолюбливали его, считали грубым и мужиковатым, однако признавали за ним силу — он везде грудью защищал свою кафедру, мог обидеть сам, но не давал в обиду своих ни декану, ни ректору. С чьей-то нелегкой руки и студенты, и преподаватели за глаза называли его Девой — Иван Поликарпович в пятьдесят лет все еще ходил в холостяках.
Очередь в аспирантуру устроена была примерно по тому же принципу, как и магазинная или на паромную переправу. Ее нужно было выжидать и попутно сдать кандидатский минимум. Сергей выстоял ее до конца, однако перед самым его зачислением Дева вдруг привел Колю Гребнева. Он закончил университет года четыре назад и, говорят, сидел где-то в деревне и учил ребятишек в школе.