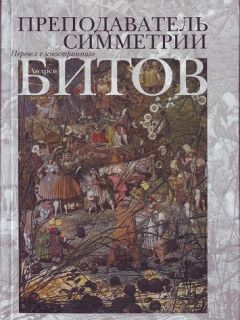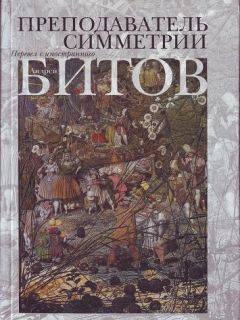Варфоломей увлекся работой. Все легче и точнее становился выбор, все шустрее выменивал он заливы на вершины, подвиги на почести, гаечный ключ на собор — карточки мелькали в его руках, как у шулера: ни разу не обмизерился, козырной туз осенял его за спиною… — и все во славу гармонии и справедливости, и все в позор хаосу и злу.
И все это было еще что… Главная битва — предстояла. Там, между Эй и Зет, была у него заветная буковка, там должны были сойтись… „Трам-тарарам“, — напевал Варфоломей победный марш, торжествуя и потирая руки. Этот замысел Варфоломей лелеял уже не первый год. В Англии бы это не прошло. Здесь, у лягушатников, отчего же?.. Дополнительный том — этот корявый довесок, но ВСЕГО мира — даровал Варфоломею свободы, недоступные в томах рядовых, стройных. Варфоломей приготовился, Варфоломей был готов. Полки были выстроены, пушки заряжены, горны сияли, вот-вот затрубят. Оставалось поднести запал. Варфоломей потянулся к заветной, козырной папочке… И вдруг вместо задуманного туза вытащил из колоды совсем не то свеженького джокера. Кто-то в красном трико, шут условный. К статье АРЛЕКИН. Пригляделся — лишнее что-то: вместо бубенчиков — рожки, вместо востроносых штиблет — копытца. „Тьфу! — плюнул для смеха. Надо же так обдернуться: вместо А — Б! А может, Д? Кто в тебя теперь верит в такого, в красном трико?.. Теперь — в тройке… Адамс. Тьфу! — уже в сердцах. Навел нечистый! Поднял глаза — за окном темно, и подозрительно тихо во всем здании. Вот заработался! Часы стояли. „Который же это может быть час?..“ — с испугом подумал Варфоломей, и враз обступили его забытые было королевские заботы. Столпились, загримасничали, заподмигивали, рассыпались, как колода из одних джокеров. Варфоломей судорожно засунул этого, в красном трико, подальше, на букву Ч, заторопился, путаясь в рукавах, жонглируя зонтом и галошами, заскользил вниз. Прозрачный лифт застрял меж этажами и, единственный, светился на темной лестнице. „Одни вы остались, — с ласковой недобротою бормотал швейцар, выметая Варфоломея с опилками из подъезда. — Телеграмма вам. С праздником наступающим вас!“ Какая телеграмма! Какой праздник! „Рождество-с“. „Как — Рождество?!“ „Варфушенька поранился. Будем к Рождеству. Обеспечь хирурга“. „Бога ради! — тряс Варфоломей нерасторопного холопа. — Когда?“ „Завтра“. „Что ты несешь, болван! — взорвался Варфоломей. — Как это завтра?“ „Обыкновенно, — обиделся швейцар, — завтра Рождество“. „Да я про телеграмму!“ „Сегодня, конечно“. Телеграмма сегодня, а приезжают когда?.. Варфоломей только рукой махнул.
Конечно, Варфоломей был большой полководец. Но положение на фронтах…
Почему-то именно великим людям мы не позволяем предаться слабости, впасть в отчаяние. А это ведь тоже право! Отказывая им в этом самом нищем праве, мы не замечаем, что отказываем им в уме и человечности, а потом сами же страдаем, имея с этим дело. Надо полагать, что у великих и отчаяние великое, и слабость безмерна. Ибо где залог победы, как не на дне этой пропасти? Мы полагаем, что Наполеон проигрывает какую-нибудь свою единственную битву, потому что у него был насморк. Но мы не можем предположить, отчего у него этот насморк случился…
Все затмевал страх за Варфушеньку. Не больно ли много набежало беды на несчастного короля? Он, который возводил горы, стирал острова и насаждал звезды, — он всего лишь несчастный сын и несчастный отец, не больше нашего… Отчаяние, охватившее короля Варфоломея, трудно и отчаянием назвать — оно безмерно. И мокрый дождь со снегом сечет в лицо, и во всем теле мерзкий голодный предгриппозный озноб. Все смешалось в его голове: микро и макро. Варфушенька — елка, Вор — Адамс, хирург — каталка, черт — нечерт…
Как он так обсчитался! Думал, что завтра все успеет, и вдруг сегодня оказалось вчера. И этого только ему и не хватало.
А нет ни елки, ни каталки, ни тем более хирурга. И что с Варфушей-младшеньким? Ужасы рисовались бедному Варфоломею в виде мчащейся галопом герцогини с обескровленным Варфушенькой на руках. Что там? рука, нога? глаз, не дай Господи? Ухо? Ухо несколько успокоило несчастного короля: без уха и прожить можно. „Форцепс! — вдруг осенило, Варфоломея. — Ну, конечно же, Форцепс! Как он мог забыть…“ Форцепса, гениального Форцепса, который славился на весь мир тем, что пришивал оторванные пальцы, руки, ноги, не то что уши… Он тут же бросился к телефону-автомату, и Форцепс был дома, и как же обрадовался ему Форцепс! Варфоломей должен был немедленно быть у него… Уши, пальцы — это все пустяки! В целлулоидовый мешочек и в холодильник… завтра все пришьем… это вам все страшно, а нам, врачам, не страшно… страшно это только когда нож из сердца вынимать, если человек еще живой, а если труп, то уже не страшно… „Какой нож, какое сердце!“ — Варфоломей обмер и покрылся потом. „А помнишь, как мы плавали на „Кинг оф Самсинг“? Я тогда был скромным судовым врачом, подумать только! Да не беспокойся ты, все будет о'кей… Вспомни только, как мы с тобой всю судовую аптеку подчистую подмели! И я до конца плавания одним керосином всех лечил. И ведь ни одного члена команды за все плавание не потерял, и не болел ни один! Как огурчики сошли на берег! правда, несъедобные… Почему несъедобные, говоришь? Да керосином все воняли! — Форцепс хохотал. — Вали ко мне немедленно! какая еще матушка, что ты лепечешь… перелом? и ее поставим на ноги! завтра же и поставим… каталка? какая каталка… да у меня их тысячи, твоих колясок, бери любую! Что мне, такого дерьма для друга жалко? Слушай, не думал, что такая зануда! Будет тебе елка. Откуда? да у себя на участке срублю! да перестань ты — мой участок, что хочу, то и делаю…“
Форцепс был совершенно пьян. Варфоломей вырывал у него топор, которым тот метил срубить собственную ногу. „Слушай, зачем ты женился?“ замахивался Форцепс. „Тебя спасал“, — вырывал у него топор Варфоломей. „Неужто я был когда-то влюблен?!“ „Был“. „Какое счастье, что я не женат, тем более по любви…“ И вот так, целясь в ногу Варфоломея, одним взмахом, профессионально, с одного удара, Форцепс удалил пушистую елочку перед роскошным особнячком елизаветинской эпохи — островок Великой Британии в стане лягушатников. „Мой дом — моя крепость, — заявил он камердинеру, выразившему решительное осуждение под маской непроницаемости, — захочу — спалю. Проводи его величество в телефонную и соединись с его резиденцией“. И, о счастье! — вдовствующая королева-мать была совершенно всем довольна: Мэгги вернулась! Ты не представляешь, что за прелесть наша Мэгги! она мне вымыла голову и завила! очаровательно… нет, голос у меня нормальный, просто мне неудобно говорить… Нет, они не вернулись, разве они должны были вернуться? Уверяю тебя, никого, кроме Мэгги… просто мне неудобно говорить, потому что у меня в руке зеркало. Нет никакой телеграммы, и никто не приезжал. А что, у нас будут еще гости на Рождество? какая прелесть! Приходи скорей, ты меня не узнаешь… Дать тебе Мэгги?..
Про Мэгги было не совсем ясно, а впрочем, почти ясно: она узнала, что герцогини не будет на Рождество. Герцогиня ее не переносила, Варфоломей никак не мог понять, за что: лучше фаворитки их принц им ни разу не приводил… Зато королева-мать — обожала, и ее Варфоломей понимал. Герцогиня недоумевала, что в ней все находили; Варфоломей же недоумевал, что Мэгги могла найти в его сыне? Редкое бескорыстие! как всегда, в нужную минуту, как всегда, спасла, как всегда, выручила!.. „Милая Мэгги… — умилился Варфоломей. — Да было ли у них что-нибудь с этим проходимцем?.. — почему-то подумал Варфоломей. — Она не такая…“
Варфоломей с Мэгги говорить не стал, оставил на всякий случай телефон Форцепса и, успокоенный (быстро доходят только дурные вести, а герцогиня все еще в пути…), проследовал из телефонной в буфетную, где Форцепс мудрил в королевском кувшине невероятный рецепт — „резекция дня“.
Наутро ударил морозец и присыпал снежок — классическая рождественская погодка. Пожалованный адмиральским званием Форцепс выкатил короля Варфоломея в богатой коляске новейшей конструкции, драгоценно посверкивающей спицами и прочими никелированными частями многообразного и не до конца еще известного назначения. Король обнимал хирургический саквояж Форцепса, в котором звякали тяжелые инструменты, как-то не металлически, а стеклянно, и вчерашнюю елочку. Тщательно выбритый, с орденом Почетного Легиона в петлице, на запятках следовал адмирал Форцепс. Взволнованные подданные детского возраста бежали следом, улюлюкая и рассыпая конфетти. Полицейский на углу отдал честь.
И так, с саквояжем и елочкой, как со скипетром и державой, с грумом в адмиральском звании на запятках, вкатил король Варфоломей в узкий двор собственной резиденции. Оставив выезд у лифта, поддерживая друг друга и опираясь то на елку, то на саквояж, поднялись они наверх. Но ключ не лез в скважину. Был он от совсем другого замка: этот был от французского, а тот был, разумеется, от английского. Возможно, ключ был даже от другой двери, возможно, от Варфоломеева кабинета. И других ключей не было — Форцепс ключей с собой не носил, у Форцепса для этого был свой ключник. На звонок не отзывался совершенно никто. И на стук тоже.