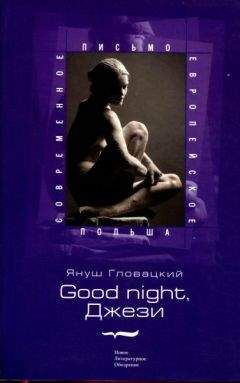— Да это ж не люди, звери. А зверь разве кому простит? Хорошо еще так закончилось, мог же ведь без следа пропасть, а так упокоится в родимой земле. Говорят, Иринушка, невеста его, за которой он на свою беду сюда приехал, в кино снимается. Видать, так Господь распорядился. — Выпила еще стопку «Столичной», подхватила пластиковый пакет и ушла.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
— Господи, — сказал Рышек. — Как же наша Иринка этого своего Захара любила! Ночи напролет обжимались где ни попадя, на чердаках, в парке. А когда его забрали в армию и отправили в Грозный, она решила, что он не вернется, и надумала топиться. Села на берегу Москвы-реки и считает на ромашке: прыгать — не прыгать. Вышло прыгать, но тут рядышком присел бездомный пес, черная дворняга, посмотрел на нее человеческими глазами, будто все понимает, положил морду ей на колени, и получился между ними тайный договор, какой только между человеком и зверем возможен.
— И не прыгнула?
— He-а. Ждала, ждала и дождалась: на Белорусском вокзале выходит из метро, исхудалый, поседевший, он или не он? Он! Она в слезы, теперь от счастья. И было счастье, покуда не поехала сюда на заработки, ну а дальше… сам понимаешь.
— Бордель.
— Этот, по соседству. А один старичок написал Захару письмо, и нате пожалуйста, вдруг ключ в замке поворачивается, дверь ее комнатушки открывается, стало быть, клиент пришел, и она, не глядя, говорит как положено: «Вон там душ». Но в ответ тишина, ни шороха, ни звука. Повернула голову и… что тут рассказывать. Он. Упал на колени. А она как бросится на него, по лицу колотит, по голове, ногами. У него уже кровь из губы каплет, но сдачи не дает, только твердит: «Моя вина, нет мне прощенья, но как я мог знать, откуда…» Тогда и она — бух на колени, руки ему целует, говорит: «Прости». И так они плачут, обнявшись. Потом второй в ее жизни мужчина, а здешний охранник, приносит одежду, еще московскую, заработанные деньги — триста двадцать без малого долларов — и паспорт. Оба, первый и второй, что-то друг другу обещают, и вот уже Захар с Ириной на улице.
Она перед Захаром оправдывается, мол, плохо выглядит, в лице небось ни кровинки, три месяца ведь не была на воздухе. Садятся в метро, маршрут F, пересаживаются на Четырнадцатой улице, и вот они уже на Манхэттене, в квартире с видом на реку Гудзон. Там жила русская старушка с двумя дворняжками, тоже престарелыми, и сыном-профессором, преподавателем поэзии в Колумбийском университете. Тем самым, который потом устроил Ирине стипендию на актерском отделении. И этот профессор показал, что́ где, рассказал, как и за сколько ухаживать за его матерью. И открыл перед Ириной ее собственную комнату, запирающуюся изнутри.
Ну и они с Захаром заперлись, Захар ее ласкает, но не целует, снимает, понятное дело, штаны, и она тоже раздевается, у него мягкий, но она-то знает в этом толк, так что у него твердеет, однако перед тем, как войти, он шарит по карманам брюк и достает презерватив. Ну а она ему, естественно, на это: так, значит, СПИДа боишься, брезгуешь, — и у него мягчеет. Он встает, надевает штаны, закуривает сигарету, бегает взад-вперед по комнате, а она твердит — сперва тихо, потом кричит: брезгуешь, брезгуешь!
И тогда он убежал. С концами.
— А откуда ты все это знаешь?
— А оттуда, что я не брезговал. — Рышек задумался, налил себе и мне. — Послушай, я тебе кое-что скажу. Когда-то я играл барона Тузенбаха в «Трех сестрах».
— Знаю, и прекрасно играл, я видел.
— И смотри, что я придумал. Тузенбах должен носить очки! Никто раньше не докумекался, даже Чехов. Барон до безумия, без памяти влюблен в младшую сестру, тоже, кстати, Ирину. Ну и она в конце концов соглашается выйти за него замуж. Соглашается, хотя его не любит. От отчаяния и тоски. Лишь бы убежать из этого чертова захолустья. И честно ему говорит, что будет послушной, верной женой, но никогда его не полюбит. И потом, когда этот сукин сын Соленый вызывает барона на дуэль, барон, то есть я, перед дуэлью снимает очки. Сечешь? Снимает и оставляет. А без очков он фактически слепой, но идет стреляться.
Мы оба выпили.
— Никакая это не дуэль, понимаешь, это самоубийство. Он знает, что она никогда, никогда в жизни его не полюбит, а раз так, ему вообще больше жить не хочется.
— Возможно, — сказал я. — Ну и что?
— Ну и то, что, подозреваю, Захар придумал что-то вроде этого и нарочно дело с лопатами завалил… Понимаешь, лопаты эти пришли морским путем из Москвы, и были они не столько из стали, сколько из обогащенного урана. И он умышленно завалил все дело, донес или еще как-то, потому что хотел, чтоб его прикончили. Потому что знал, что ни она ему не простит, ни он ей. Хотя оба не виноваты. Так я считаю. А ты как думаешь?
— Возможно, и так, — сказал я. — Но ты, Рышек, романтик.
— А это уже другой разговор. Но на Ольге я так или иначе женюсь.
Мы оба выпили, и я попытался встать, но упал. Потолок кружился, а зал пел. Белоруски подхватили меня под руки.
Два съемочных дня на Манхэттене (день, пленэр)
Джези и Харрис идут по Пятьдесят восьмой улице. Только что появилась статья в «Village Voice», на первой полосе огромные буквы: «Jerzy Kosinki’s tainted words» (что-то вроде «слова с душком или с гнильцой» и, вероятно, одновременно намек на «Painted Bird»[49]). Газета выставлена во всех киосках. Джези и Харрис проходят мимо витрины книжного магазина «Coliseum» как раз в ту минуту, когда продавец убирает с нее книги Косинского.
— Идиот. — Харрис пожимает плечами. — Кретин. Именно сейчас продажа пойдет вверх. Спокуха, Джези. Переходим в контратаку. Издательство уже отправило письмо в газету. Кое-кто из твоих редакторов считает, что журналисты использовали их в своих сомнительных целях. Ну, я побежал. У меня встреча в ПЕН-клубе. Потом сразу же позвоню. Держись и ничего не бойся. Увидишь, мы с тобой еще на этом заработаем.
(ночь, интерьер)
Джези входит в квартиру. За окном, как всегда, мигает «American Airlines». Джези в кабинете проверяет сообщения на автоответчике. Все от журналистов и одно от Маши; пленка заполнена до отказа. Включает телевизор без звука. На одном из каналов видит свое лицо и газету со статьей. Достает таблетки. Глотает одну, потом, подумав, еще одну, запивает виски. Смотрит на себя на экране. Садится за письменный стол, начинает печатать на пишущей машинке. Через минуту вытаскивает страницу, перечитывает, рвет. Вставляет другую, печатает, эту не выкидывает. Проходя через living room, бросает сакраментальное:
— Спокойной ночи.
Из-за портьеры выходит высокая красивая женщина, удивительно похожая на его мать. А может, это она? Так, во всяком случае, кажется Джези. Они обнимаются. Он как ребенок прячет голову у нее на груди.
Она. Я с тобой, малыш.
Джези. Я ухожу.
Она. Помни, я всегда буду тебя любить.
На углу Шестой авеню и Пятьдесят седьмой улицы все было как всегда. Он поздоровался с девушками, они ничего не знали о его бедах, да их это и не интересовало. Кармен охотно согласилась пойти в клуб. Но перед самым входом он дал ей две сотни и пошел дальше один.
Было душно и влажно. Он расстегнул рубашку, потом снял галстук и пиджак. Желтовато-свинцовые тучи над Гудзоном заглатывала чернота; со стороны Нью-Джерси надвигалась гроза. Он перешел хайвэй и зашагал по широкому каменному пирсу, одному из нескольких, выдающихся далеко в реку. Там было безлюдно, разве что промелькнуло несколько бесприютных теней, поспешающих в сторону города и света. Из огромного спортивного комплекса неподалеку доносился приглушенный стук мячей для гольфа.
Он дошел до конца пирса и долго с отвращением смотрел на воду. Почти черная, она уносила в океан пустую бутылку и обломанные ветки.
Он содрогнулся и повернул обратно.
Полил дождь. Не просто полил — с неба обрушился водопад. Потом сверкнуло и прикатил запоздавший гром. Мгновенно промокшая рубашка прилипла к телу, а в туфлях захлюпало. К счастью, он был уже на другой стороне хайвэя. Свернул пиджак и прижал к груди.
Первый бар, до которого он добрался, был длинный, темный, неприглядный, кондиционер не справлялся, пахло пивом, пылью и потом. Больше всего света давала висящая над бильярдным столом лампа. Двое чернокожих попеременно склонялись над вытертым зеленым сукном. На столике рядом громоздились пустые бутылки из-под «Будвайзера». В дальнем углу пила пиво смешанная черно-белая компания. Он быстро заказал водку с тоником, выпил залпом, в тесном туалете снял рубашку. Вытерся бумажным полотенцем, на минутку подставил рубашку под струю теплого воздуха из сушилки для рук. Чуточку помогло. У стойки попросил воды, из верхнего кармана пиджака достал пакетик, который полчаса назад продала ему Кармен. Порошок был влажный, он запил водой расползающуюся во рту белую массу и заказал еще порцию водки с тоником.