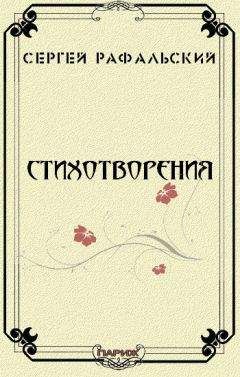— Ага, — торжествующе сказал кому-то Александр Петрович, — это тебе не салатница! — И он прибавил несколько выражений, в светских писаниях обычно заменяемых многоточием. Затем сел на кровать и стал расшнуровывать тесноватые ботинки. Это нехитрое дело — при некоторых обстоятельствах — способно обращаться в Сизифов труд, так что, когда второй ботинок, вдребезги разгромив неврастенически чуткий сон нижнего жильца, грохнулся на пол — Александр Петрович почувствовал, что окончательно устал от условностей цивилизации, и, как был — в полной амуниции, в позе гоголевского удальца на пыльной улице Вольной Сечи Запорожской — раскинулся на постели.
Лампа на потолке, раскачавшись, описала светящийся круг и стала спирально подыматься в бесконечность, и, обрадовавшись возможности на время развязаться с грузным, обмякшим и хмельным телом, беспутная душа Александра Петровича взвилась было за ней в мировое пространство, но тотчас же, как использовавшая весь запас горючего ракета, замедлилась, остановилась и ринулась вниз на самое дно глухого забвения.
Прислушиваясь к исполинскому храпу лежавшего на спине человека, по комнате, один за другим, на цыпочках проходили ночные часы…
И вот уже предутренняя серость заглянула в окошко…
Не меняя позы, Александр Петрович все еще спал глубоким каменным сном. Наконец, организм его справился с алкогольной отравой, и, словно затопленный кессон, в который накачивают воздух, сознание медленно всплывало со дна небытия. Закрытые глаза забеспокоила все еще горящая прямо над ним лампа, но лежать было так удобно и тело казалось таким тяжелым и бессильным, что поднять руку, а тем более встать — граничило с издевательством над собственной личностью.
И вдруг в дверь вызывающе постучали.
«Ишь, чертова кукла! Когда пневматик прислал!» — думая об Иване Матвеевиче, пробормотал Александр Петрович.
Кое-как приподымаясь и то и дело нелитературно выражаясь, он вырвался из облипающего сна, помотал обалделой головой, мимоходом свалил стул и пошлепал в носках к двери.
Ключа в замочной скважине, однако, не оказалось… И вообще — по всем признакам — это была дверь в квартиру Ивана Матвеевича.
Нисколько не удивляясь, Александр Петрович, по древней привычке, полез под коврик, взял ключ и вошел.
В столовой горел свет, и в зеркале прихожей Александр Петрович увидел, что Буба, в позе торжествующей царицы Тамары, сидит, откинувшись в кресло, и холодной пустотой своих прекрасных глаз следит за стоящим перед ней на коленях и выразительно жестикулирующим Рыжим.
«Не по себе дерево сгибаешь, хлюст! — язвительно пробормотал Александр Петрович. — Она тебе покажет, как лягушки скачут!»
И, похоже, оказался пророком, потому что Рыжий, стремительно встал с колен и, театрально протянув руку, задекламировал:
Царевич я! Довольно! Стыдно мне
пред гордою полячкой унижаться…
«Вот сволочь! — прошипел Александр Петрович. — Плагиатщик!»
Однако выйти из прихожей и разоблачить Самозванца не успел: в столовой возник Иван Матвеевич и пшютовским гусарским козлетоном заскрипел:
— Сугубый! Будьте любезны оставить мою дочь в покое! А для общего развития — потрудитесь, пеший по конному — галопчиком, вокруг помещения — марш — Марш!
Рыжий затопотал сапогами, и, не желая впутываться в чужие семейные дела, Александр Петрович вышел на лестницу.
На площадке с метлой в руках ждала Марго. Словно старого друга, она взяла Александра Петровича под руку, и так, болтая всякую ерунду, они стали спускаться по лестнице. Александр Петрович вдруг вспомнил, что он в носках, и сконфузился ужасно: «Черт! Хорошо еще, что я — ложась — штанов не снял!» — подумал он, стараясь ступать необутыми ногами возможно правдоподобнее.
Внизу Марго повела к выходной двери, и Александр Петрович увидел, что у подъезда стоит большая белая машина какой-то необычайной формы. Присмотревшись, сообразил, что это не автомобиль, а моторизованная салатница. На блестящих фаянсовых боках ее вились даже, будто бы рисованные от руки, гирлянды мещанских розочек.
Марго вошла в машину и, держа метлу как гондольеры весло, показала на место рядом с собой. Александр Петрович поспешно перелез через борт, но в носках, — поскользнулся на фаянсе и упал прямо на девушку. И тут только заметил, что она совсем голая. Обалдевая, Александр Петрович погладил неуверенной рукой упругую ляжку и услышал над собой переливчатый, противно резкий свист.
«Наверное, красный огонь проскочили!» — огорченно подумал, отодвигаясь от девушки и выглядывая за борт салатницы.
И, действительно, сигнал был сзади, а к ним подходил полицейский, т. е., вернее, полицейская, женщина-солдат, каких немало было в зоне советской оккупации в Германии.
«Ангидрид вашу перекись марганца!» — кричала она, сбив пилотку на затылок и размахивая семафорчиком. — «Что ж у вас, так и этак, и еще раз так, и протак, и перетак, и растак, и еще раз так — повылазило, что ли?»
Александр Петрович ругани не удивился: в Германии он и не к тому привык… Однако теперь Александру Петровичу было стыдно перед Марго, и он попытался было отменно вежливой речью унять зашедшуюся бабу, но вдруг узнал в ней Галю и совсем застыдился уже от того, что рядом с ним сидит голая француженка. Хороша любовь до гроба! Между тем Галя тоже его узнала и — отшвырнув семафорчик — с визгом вцепилась в рыжий «перманан» Марго.
Перепуганная девушка не сопротивлялась.
Галя вытащила француженку из салатницы и сама села на ее место.
Когда она перелезла через борт, Александр Петрович заметил на сапоге плохо приставленную, но старательно начищенную латку.
«Бедность у них в социалистическом раю!» — успел подумать он и, чтоб хоть как-нибудь оправдаться, состроив нежное лицо, повернулся к спутнице. Но Гали, собственно говоря, не увидел.
На белом фаянсе правдоподобно, как живые — носками врозь — лежали сапоги, а высоко над ними, бочком, словно хлебнувший воды бумажный кораблик, плавала пилотка.
Александр Петрович в ужасе отпрянул… Пилотка двинулась за ним и, вея могильным холодом и тленьем, почти прижалась к его лицу. Александр Петрович вскочил и, как бешеный, полез на вдруг ставшую непомерно высокой белую стену. Руки и ноги бессильно скользили по фаянсу, а Галины сапоги больно топтали спину, и пилотка хлестала по лицу…
«Спасите!» — Изнемогая, заревел несчастный и тотчас же, холодея от смертной тоски, подумал, что спасать-то его, собственно, некому. Но прежде чем он успел впасть в окончательное очаяние, перед его носом заколыхалась толстая, мохнатая, черная веревка.
Александр Петрович изо всех сил уцепился за нее. Почувствовав, что его самосильно тянут вверх, подобрался на руках, перещупывая (довольно болезненно) ребрами край салатницы, перевалил на ту сторону и увидел, что кот Мурка, распластавшись от усилий, впиваясь — для упора — когтями в паркет, оттаскивает своего пассажира подальше от рокового края. Рядом с его черной шубкой возникли вдруг по-восточному загнутые носки шитых золотом домашних туфель, от которых уходили вверх полы богато-пестрого, как у сказочных чародеев, кашмирского халата. Кто-то заботливо взял Александра Петровича подмышки, помог ему встать на ровные ноги, и Вадим Александрович — это был он — сочувственно осведомился у пострадавшего, как тот себя чувствует.
Все еще тяжело дыша, заикаясь и путаясь в словах, Александр Петрович стал горячо благодарить, но Махоненко отрицательно замахал настойчивой рукой: «Я здесь, голубчик, ни при чем! Это все он (кивок в сторону Мурки), Вы попали в такой прорыв времени, что только животная сила могла вернуть вас обратно в эту жизнь!»
Александр Петрович обратился к Мурке, но тот иронически посмотрел на него зеленым полыханьем своих огромных глаз и, усевшись поудобнее, с полным безразличием к человеческим чувствам и делам, стал старательно облизывать и расправлять свой пушистый хвост.
Ощущая вокруг себя величественные пространства какого-то огромного здания, Александр Петрович с недоумением осматривался: «Где это мы?»
Вадим Александрович наклонился к его уху и зашептал:
«А-тлан-ти-да!»
«Она ведь потонула десять тысяч лет тому назад?!»
«Это первая. А вторая пока что еще только собирается… И это — сокровищница ее духовных богатств…»
И, хотя Александр Петрович выразиться не успел, как будто предупреждая возражение, Махоненко ласково обнял его за плечи: «Вы, голубчик, рассуждаете по-русски, для вас духовность — это нечто вроде голубых курений или золотистого облака над вознесенной душой. А они это золотисто-голубое уплотнили, материализовали, отточили, отгранили, отчеканили, отшлифовали и вот полюбуйтесь: диалектика Гегеля!»