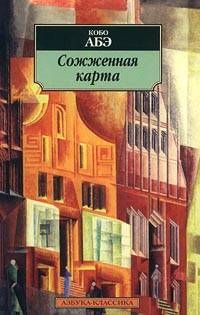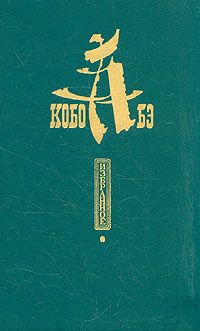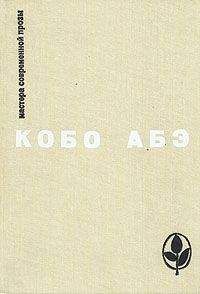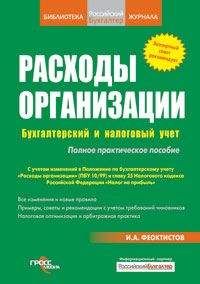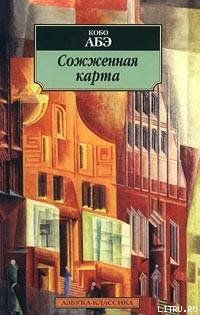И снова белое небо… и белая дорога, точно привязанная к этому небу… фонари уже сомкнули веки, дорога расширяется — на глаз метров десять… только кое-где в распахнутых парадных еще сохранились остатки ночи. Последние машины, развозящие молоко, проносились мимо вниз по склону, громыхая пустыми бутылками.
К счастью прохожих нет, я взлетаю по лестнице, прыгая через две ступеньки. И вот белый звонок у белой металлической двери с темно-зелеными наличниками… прошел всего лишь один день, а у меня состояние как у матроса, ступившего на сушу после многомесячного плаванья… какое бы значение ни таила в себе полосатая штора, человеку с окровавленным лицом, конечно же, разрешат войти.
После второго звонка шторка окошечка в двери наконец приоткрывается. В такое время задержка вполне естественна. Звук поспешно снимаемой цепочки. Ручка поворачивается, дверь широко распахивается, и, как я и ожидал, испуганный голос:
— Что случилось? В такую рань…
— «Камелия». Разрешите умыться…
Во всяком случае, в прихожей мужских ботинок не видно. Женщина, с сеткой на голове и в какой-то стеганой пижаме, кажется девочкой, и я никак не могу совместить ее с цветной фотографией, на которую, не отрываясь, смотрел две ночи подряд.
— «Камелия»? То самое кафе?
Снимаю пальто, стягиваю пиджак — ворот и рукава рубахи залиты кровью. Обмакиваю вату в теплую воду, приготовленную в умывальнике, и, тщательно смывая с лица запекшуюся кровь, коротко рассказываю о случившемся, тяжело при этом вздыхая, тяжелее, чем необходимо. Тревожные сведения, полученные от сторожа автостоянки… рассказ шофера Томияма, подтвердившего эти сведения… нелегальное посредничество в устройстве шоферов на временную работу…
— Пораненные места лучше не трогать. Сменить воду?
— Видимо, это кровь из носа… ран как будто нет… щиплет, но это, вероятно, ссадины.
— Вы, наверно, сами сделали что-нибудь такое, что им пришлось так вас избить.
— Избили — значит, наверно, сделал.
— Они безумно боятся попасться на глаза постороннему человеку.
— Вы уже знаете, что Тасиро покончил с собой?
— Покончил с собой?
— Он во что бы то ни стало хотел убежать.
— Что его к этому побудило? Должна ведь быть какая-то причина?
— Что побудило?.. Видите ли, это долгий разговор… в общем, он сбился с дороги… где я?.. действительно ли я живу так, как мне кажется?.. подтвердить это могли только другие, но ни один из них не взглянул в его сторону…
— Тогда мне следовало бы давным-давно умереть, вы не думаете? — В ее голосе снова слышится напряжение. — Рубаха мужа будет вам впору… наденете?
— Да, из-за него я потерял работу. Мой шеф страдает ярко выраженной полициебоязнью, и, если возникает хотя бы малейшая опасность оказаться втянутым в какие-нибудь неприятности, он тут же увольняет человека. Я могу рассчитывать, что вы разрешите мне продолжать работу оставшиеся два дня, хотя меня и уволили?
— Наверно, из-за меня.
— Вы сменили штору.
— Залила кофе. Позавчера, кажется. Совершенно верно, в день похорон брата… да, точно, вскоре после того, как вы заезжали ко мне… пятна от кофе очень плохо отходят… поэтому я отдала в чистку… разговаривала с кем-то, и он сказал, что очень бы хотел выпить кофе… пока я наливала, все было хорошо, а когда понесла, сзади кто-то пощекотал меня…
Неожиданно я чувствую тошноту. Резкая боль, возникнув у глаз, захватывает всю черепную коробку и, как в фокусе, концентрируется в затылке и сжимает горло.
— Кто же вас пощекотал? Вы опять размечтались о муже?
— Да, судя по тому, где пощекотали, видимо, так.
— Мне очень нравилась та лимонная штора.
— Через два-три дня повешу обратно.
— Осталось пятьдесят восемь часов. Двое суток и десять часов… до того момента, как истечет срок договора о розыске… договор на неделю, но воскресенье отбрасывается, и счет составляется исходя из шести дней.
— Я работать пойду. Пусть вас это не беспокоит…
Тошнота подступает все сильнее. Желудок становится тяжелым, будто в него погрузили грязный ком глины.
— В одном Токио не меньше восьмидесяти тысяч шоферов такси. Крупных таксомоторных компаний около четырехсот, а если прибавить и мелкие, то больше тысячи. Можно ежедневно обходить эти компании, но все равно в день больше чем в пяти не побываешь…
— Вы себя плохо чувствуете?
— Да, неважно…
— Вам бы лучше прилечь…
Головная боль и тошнота сузили поле зрения, все мое сознание бесстыдно вцепилось в напрягшиеся маленькие руки женщины. Будто в них сосредоточился весь мир. Наклонившись вперед и изо всех сил стараясь сдержать готовую вырваться рвоту, я впервые проникаю в спальню… неубранная после сна белая постель… вмятина на ней, оставленная женщиной… нос полон спекшейся крови и не ощущает запаха, но я все равно улавливаю его… вмятина от середины постели до стены — оставленное мне ложе для сна… оливковая перепонка лягушачьей лапки…
— …Простите… что там ни говори, а в сравнении с настоящим городом карта, которую мы нарисовали, слишком примитивна…
— Лучше помолчать, когда плохо себя чувствуешь… у вас еще целых тридцать четыре часа…
Женщина сидит на полу у кровати и, оставаясь невидимой, пристально смотрит на меня. Она действительно смотрит на меня? Или, как и тот гость, которого она угощала кофе, я тоже причислен к видениям — ее собеседникам, — когда она разговаривает сама с собой?..
Это огромное сердце, которое бьется, не зная, для кого оно бьется… город… изменив положение, ищу женщину… но ее уже нигде нет… где же я, на которого смотрит женщина, которой нет?..
— Сколько времени, а?..
— Пять минут…
Торшер около подушки неожиданно загорается — прямо передо мной стоит женщина. Стеганую пижаму она сменила на светло-желтое кимоно, сетка с волос исчезла, волосы рассыпаны по плечам.
— Пять минут какого?
— Пять минут назад истек срок договора.
— Как? — От неожиданности я подскакиваю на постели. — Что это значит?
Можете не беспокоиться. — Женщина поворачивается, отходит на несколько шагов и останавливается посреди комнаты. — С завтрашнего дня я решила пойти работать…
Перед тем как она повернулась, в выражении ее лица промелькнула неясная тень, оставившая легкий привкус на моих губах. Незнакомые воспоминания сковывают грудь. Почему я так отчетливо представляю себе, что делала женщина до того, как зажгла свет? Теперь ее взгляд, скользнув мимо стены, у которой стоит кровать, устремляется к окну рядом с туалетным столиком… к темно-коричневой шторе с простым рисунком в виде белых квадратиков неправильной формы…
— Что вы увидели?
— Окна…
— Нет, я спрашиваю, что вы видите в окне?
— Я же говорю, окна… много окон… в них, то в одном, то в другом, гасят свет… и только в такие минуты я могу почувствовать — там есть люди…
— Значит, сейчас уже ночь?
— Пять минут…
— Это я так долго спал?
— Нет еще… будете спать…
Откинув голову, она медленно встряхивает волосами, и они качаются из стороны в сторону. Сквозь кимоно можно ясно увидеть, как в такт этим движениям колышется ее грудь. Я напрягаюсь, потихоньку спускаю левую ногу на пол, перемещаю на нее центр тяжести и вскакиваю с кровати. Делаю шаг вперед, протягиваю руки, обнимаю ее и неожиданно сильно щекочу. Женщина коротко вскрикивает, вырывается из моих рук и пытается убежать. Но бежит она не к окну, не к двери, а прямо ко мне. Мы сталкиваемся и падаем на кровать. В моих глазах смеются коричневые веснушки, между пальцами натягивается нежная оливковая пленка. Вмятина на постели, оставленная женщиной… приготовленное мне ложе для сна…
Напротив кровати стоит платяной шкаф. Матово-белые большие металлические ручки. Поверхность шкафа, отделенная под бамбук, светло-коричневая и отполирована так, что на расстоянии двух метров можно смотреться в нее как в зеркало. Женщина где-то, видимо на кухне, тихо напевает. Доносятся лишь отдельные звуки, поэтому разобрать, что за песня — невозможно. Надев пиджак, я иду… идет и женщина… она проходит миме лимонной шторы, и сразу лицо ее становится черным, волосы — белыми, губы — тоже белыми. Зрачки — белыми, белки — черными, веснушки превращаются в белые точки, будто это пыль на скулах каменной скульптуры… крадучись, я направляюсь к двери.
Вдруг я замедляю шаг и останавливаюсь. Останавливаюсь, точно меня отбрасывает назад пружина воздуха. Центр тяжести, перенесенный с пальцев левой ноги на пятку правой, снова возвращается к левой и сосредоточивается в колене. Потому что подъем очень крутой.
Дорога не асфальтированная, а покрытая грубым бетоном, и, видимо, чтобы предотвратить скольжение, через каждые десять сантиметров в нем прорезаны узкие бороздки. Но пешеходам от этого пользы мало. К тому же пыль и крошки от стирающихся на шершавом бетоне покрышек постепенно забили все неровности, и в дождливый день, если ботинки на резине, да еще старые, идти по такой дороге — дело, наверно, нелегкое. Видно, она рассчитана на автомашины. Бороздки через каждые десять сантиметров, по всей вероятности, могут сослужить им службу. Не исключено, что они оказываются эффективными и для отвода воды в кювет, когда талый снег и грязь забивают водостоки.