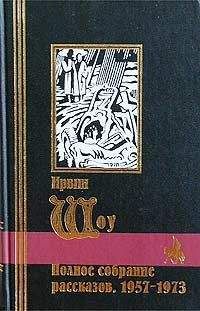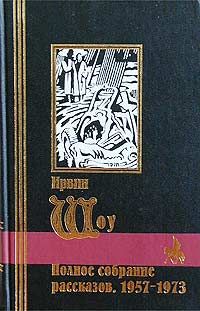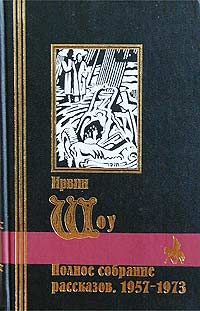Констанс кивнула; медленно пошли назад. Городок, расположенный на холме впереди них, теперь окутала плотная темнота, но в ясном ночном воздухе до них доносилась танцевальная музыка — играл маленький ансамбль.
— Мне наплевать! — заявила Констанс, когда достигли первых домов. — Мне на все наплевать!
— Когда мне было двадцать, я говорил то же самое.
— Прежде всего, будем людьми практичными, — продолжала Констанс. — Чтобы остаться здесь, тебе нужны деньги. Ты их получишь завтра же.
— Я не могу взять от тебя деньги.
— Они не мои, — уточнила Констанс, — отцовские.
— Англия останется в вечном долгу перед тобой. — Притчард пытался улыбнуться. — Но только поосторожнее со мной.
— Что ты имеешь в виду?
— Мне все больше кажется, что меня все же можно утешить.
— Что же в этом дурного?
— Это может иметь смертельный исход, — прошептал ей Притчард, неловко, по-медвежьи, обнимая ее, — для тех из нас, которые безутешны.
Когда проснулись на следующее утро, то вначале были подчеркнуто вежливы и, не упоминая о том, что произошло, как ни в чем не бывало обсуждали погоду: если судить глядя через щель в неплотно прикрытой шторе, она ненастная, безрадостно серая, неопределенная.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил ее Притчард.
Констанс не торопясь, сморщив лоб, обдумывала его вопрос, чтобы не попасть впросак и ответить поточнее.
— Я чувствую себя… поразительно взрослой.
Притчард расхохотался, и от почтительной, даже торжественной вежливости не осталось и следа. Лежали в удобной постели, говорили каждый о себе, загадывали, что им готовит будущее. Констанс постоянно волновалась, хотя, конечно, не очень серьезно, что скажут о них постояльцы отеля, не разразится ли скандал, а Притчард ее успокаивал: швейцарцы — такой народ, который никогда не скандалит, что бы здесь ни вытворяли иностранцы, и от этих его утешительных, ласковых слов ей становилось еще уютнее — ведь как приятно находиться в цивилизованной стране.
Строили планы насчет свадьбы; Притчард предложил для заключения брака поехать в французскую часть Швейцарии, так как ему не хотелось делать это здесь, в немецкой ее части, а Констанс стало досадно, что она сама об этом прежде не подумала.
Потом решили все же встать и одеться — нельзя же вечно лежать в постели, — Констанс, глядя на него, испытывала к нему жалость (какой он худущий!) и, словно заговорщик, обдумывала про себя, как все исправить: яйца, молоко, масло, отдых — вот и весь рецепт. Вышли из номера вместе, намеренно бросая всем вызов, но, к сожалению, ни в коридоре, ни на лестнице не было ни души, чтобы обратить внимание на их счастливые лица.
«Тем лучше, — сочла Констанс, — нам двойное удовольствие: мы ничего не скрываем, но никто на нас не смотрит, и это, несомненно, доброе предзнаменование». Бросив взгляд на часы в отеле, вспомнили, что уже время ланча, и вошли вместе в столовую с потертыми деревянными панелями. Заказали сначала вишневой водки, потом апельсиновый сок, яйца с беконом и чудесный черный кофе. Вдруг в самом разгаре трапезы слезы выступили на глазах у Констанс. Притчард удивленно спросил, в чем дело, почему она плачет, и она ответила:
— Думаю о том, как мы будем впредь всегда завтракать вдвоем.
У Притчарда тоже увлажнились глаза, и она, глядя на него через стол, это заметила:
— Прошу тебя, плачь почаще!
— Это почему же? — недоуменно осведомился он.
— Потому что это так не по-английски!
И оба засмеялись.
После завтрака Притчард сказал, что собирается на гору, раза два спуститься. Поинтересовался, не составит ли она ему компанию, но Констанс отказалась: в этот день внутри у нее «все поет», и такое состояние не для лыж. Услышав это «все поет», он широко улыбнулся.
— И еще мне нужно написать кое-какие письма, — добавила она.
Он тут же задумался, помрачнел.
— Как джентльмен, я должен немедленно написать твоему отцу и все ему объяснить.
— Не смей и думать об этом! — испуганно воскликнула она, и не просто так, шутки ради: отлично знала — ее папаша, получив такое письмо, прилетит сюда на первом же самолете.
Констанс долго глядела ему вслед, когда он большими шагами шел между наметенными по обочинам сугробами, в своем красном свитере, с лыжами на плече, — такой юный, веселый, совсем мальчишка. У себя в номере она написала Марку письмо.
Все между ними кончено; ей, конечно, очень жаль, но тут ничего не поделаешь, — она теперь уверена, что совершила ошибку. Писала спокойно, совсем не волнуясь, ничего не чувствуя, кроме уюта своего небольшого, теплого номера. О Притчарде ничего не сообщила — это уже Марка не касается.
Потом написала письмо отцу и оповестила о своем разрыве с Марком. Не обмолвилась и ему ни о Притчарде, — чтобы не прилетел сюда на первом же самолете, — ни о своем возвращении. Зачем зря торопиться — можно и подождать.
Запечатав письма, легла немного вздремнуть и проспала без сновидений почти целый час. Встала, оделась потеплее, как и подобает в этом снежном царстве, и пошла на почту отправить письма; долго наблюдала у катка, как детишки скользят по льду на коньках. По дороге в отель купила для Притчарда легкий желтый свитер — ведь скоро уже солнце начнет припекать по-весеннему и в зимней одежде ему будет жарко.
Сидела в баре, терпеливо ожидая его прихода, но он все не шел. Потом услыхала, что он разбился. Никто к ней не подошел, не сообщил о несчастье — не видели для того особой причины.
Инструктор, под чьим руководством Притчард иногда катался, объяснял в баре каким-то американцам:
— Понимаете, он утратил контроль над собой, — видимо, не рассчитал, и на сумасшедшей скорости врезался в дерево. Через пять минут умер. Хороший был парень, веселый. Развил слишком высокую скорость, и у него не хватило техники, чтобы с ней справиться.
Инструктор, конечно, не говорил так, словно смерть лыжника — дело обычное, рутинное, но в голосе его не чувствовалось и особого удивления. Сколько раз он сам ломал ребра, как и все его друзья; сколько раз врезались в деревья, в каменные стены; сколько раз ему приходилось падать и в летнее время, когда становился инструктором по скалолазанию. Вот он и говорил так, словно такой конец неизбежен и даже вполне заслужен, ибо время от времени людям в горах приходится расплачиваться жизнью за пробелы в технике лыжного спуска.
Констанс осталась, чтобы принять участие в его похоронах; шла, вся в черном, за санями до церкви и потом до вырытой в укрытой снегом земле ямы, — неожиданная ее чернота, когда все вокруг по-зимнему бело, поразила ее. Никто на похороны из Англии не приехал, да и кому приезжать? Правда, бывшая жена прислала по телеграфу деньги на цветы. Пришло много деревенских жителей, но все они были только друзьями; пришли несколько лыжников, шапочно знакомых с Притчардом; Констанс все принимали тоже за его друга.
На могиле инструктор по лыжам, повинуясь профессиональной привычке, свойственной всем учителям, повторять одно и то же, еще раз отметил:
— Он не обладал достаточной техникой для такой высокой скорости.
Констанс не знала, что делать с желтым свитером, и в конце концов отдала горничной — пусть носит ее муж.
Спустя восемь дней она была в Нью-Йорке. Отец встречал ее на пирсе. Она помахала ему рукой, он помахал в ответ, и даже с такого большого расстояния ей стало ясно, как он рад ее возвращению. Когда она сошла с трапа, отец крепко обнял ее, поцеловал, потом, отстранив от себя на вытянутую руку, с восхищением изучая ее, довольный, воскликнул:
— Боже, ты выглядишь просто превосходно! Ну что, кто прав?
Она, конечно, не хотела, чтобы он заводил об этом речь, но понимала, что он не в силах сдержаться.
— Неужели ты думаешь, что я не знаю, о чем говорю?! — радовался он.
— Да, папа, ты прав, — подтвердила она.
Про себя думала: «Как я могла когда-то на него сердиться? Ведь он не глупый, низкий, эгоистичный или ничего не понимающий человек, — нет, просто он одинок».
Взяв ее за руку, как обычно, когда водил ее, еще маленькую девочку, гулять, отец повел ее к таможне. Нужно подождать, когда из грузового трюма доставят ее багаж.
Человек, который женился на француженке
Эта привычка крепко-накрепко укоренилась в нем. Теперь, по сути дела, она превратилась в ночной ритуал. Как только он садился в поезд для сезонников и льготников на Центральном вокзале, то первым делом раскрывал французскую газету. Чтение ему давалось с трудом, так как он начал сам изучать французский, когда вернулся с войны из Франции, а с тех пор прошел только год. В конце концов ему удалось прочитать почти всю ее: на второй полосе сводку о несчастных случаях и совершенных преступлениях, раздел политики, театральную и даже спортивные странички. Но, прежде всего, его интересовали информационные сообщения о покушениях, взрывах пластиковых бомб, одиночных и массовых убийствах, которые совершала в Алжире и по всей Франции ОАС1 — секретная вооруженная организация, поднявшая мятеж против правительства генерала де Голля.