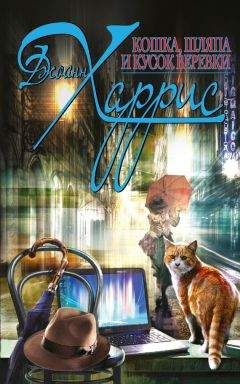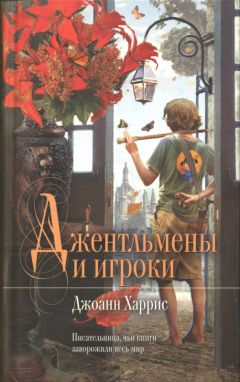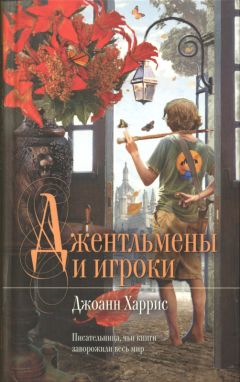Школьная забава, скажет «Икземинер»: опасная проделка в честь Хэллоуина, обернувшаяся преступлением. Шампанское немного выдохлось, но я все равно его пью, делая попутно несколько обычных звонков с телефона, позаимствованного у Коньмана, под залпы фейерверков и вопли юных гуляк — ведьм, духов и вампиров, — доносящиеся с улицы.
Если сесть справа у окна, можно увидеть Дог-лейн. Интересно, сидит ли Честли у своего окна в эту ночь, пригасив свет и задернув занавески? Он ждет неприятностей, это уж точно. От Коньмана или кого-то еще — «солнышек», дýхов. Честли верит в привидения — еще бы, — а сегодня ночью они особенно сильны, подобно воспоминаниям, вырвавшимся на свободу, чтобы охотиться на живых.
Пусть охотятся. Мертвые им не слишком интересны. Мой же вклад — небольшая палка в старые колеса «Сент-Освальда» — уже сделан. Назовите это жертвоприношением, если хотите. Расплатой кровью. Если уж это их не удовлетворит, то не удовлетворит ничто.
3
Школа для мальчиков «Сент-Освальд»
Понедельник, 1 ноября
Какой кошмар. Просто вселенский кошмар. Я, конечно, видел вечером пламя, но думал, что это ежегодный костер Гая Фокса, правда на несколько дней раньше и чуть подальше от обычного места. Потом я услышал пожарные сирены и сразу понял, что мне нужно туда. Это было так похоже на прошлый раз: я вспомнил вой сирен в темноте, Пэта Слоуна, похожего на обезумевшего кинорежиссера со своим чертовым мегафоном...
Когда я вышел из дома, подмораживало. Хорошо, что надел пальто, а шею надежно укутал клетчатым шарфом — рождественский подарок одного мальчика, сделанный в те времена, когда ученики еще были на такое способны. В воздухе приятно пахло дымом, туманом и порохом, и, хотя было поздно, компания играющих в «Угости или получишь» спешила по аллее с сумкой сладостей. Один из них — маленькое привидение — бросил походя обертку, кажется, от «сникерса», и я машинально нагнулся, чтобы ее подобрать.
— Эй, ты! — пустил я в ход свой колокольно-башенный голос.
Маленькое привидение — мальчонка лет восьми-девяти — остановилось.
— Ты что-то уронил, — сказал я, подавая ему обертку.
Привидение взглянуло на меня, как на сумасшедшего.
— Чего?
— Ты что-то уронил, — терпеливо повторил я. — Тут рядом урна. — Я указал на мусорный бак в дюжине ярдов. — Пойди и выбрось туда.
— Чего?
Позади него заухмылялись, подталкивая друг друга. Кто-то в дешевой пластиковой маске захихикал.
«Солнышки», со вздохом подумал я, или юные головорезы с Эбби-роуд. Кто еще позволит своим восьми-девятилетним детям шататься по улицам без взрослых в половине двенадцатого?
— В бак, пожалуйста, — сказал я снова. — Я уверен, вы достаточно воспитанны, чтобы не бросать мусор, где попало.
Я улыбнулся. Среди них был волк, три привидения в простынях, грязный вампир, у которого текло из носу, и неописуемая личность — вурдалак, или злой гном, или безымянное голливудское создание из «Секретных материалов».
Малютка-привидение посмотрело на меня, потом на обертку.
— Молодец, — начал было я, когда оно двинулось к баку.
Но мальчишка обернулся и ухмыльнулся, оскалив зубы старого курильщика.
— Отвали, — сказал он и побежал по улице, бросив обертку.
Остальные помчались в другую сторону, бросая на бегу бумажки, и я слышал их насмешки и издевки, пока они не скрылись в морозном тумане.
Зря я вмешался. Будучи учителем, я всякого насмотрелся, даже в «Сент-Освальде», где как-никак учится элита. Эти «солнышки» — другой породы: у них дома процветает алкоголизм и наркомания, царят нищета и насилие. Мат и мусор для них — часть нормальной жизни. В этом, по сути, нет злого умысла. И все же меня это как-то слишком встревожило. Сегодня я раздал вымогателям угощений три вазы сладостей, и там среди прочего были и батончики «сникерс».
Я подобрал обертку, бросил ее в урну, и мне вдруг стало тоскливо. Я старею, вот и все. Мои представления о молодежи (и о человечестве в целом) совершенно устарели. И хотя я подозревал — а в душе даже знал, — что пожар тот имеет отношение к «Сент-Освальду», я не представлял такого; дурацкий оптимизм, который всегда был и лучшей, и худшей стороной моей натуры, не позволяет столь мрачно смотреть на мир. Вот почему я искренне удивился, когда пришел в Школу, увидел пожарную команду в пламени и понял, что Привратницкая горит.
Могло быть хуже. Хорошо, что не библиотека. Там уже случался пожар, до меня, в 1854 году, сгорело больше тысячи книг, и среди них очень редкие. Скорее всего, кто-то забыл погасить свечу — в школьных анналах нет ничего, что говорит о преступных намерениях.
А здесь они есть. В отчете начальника пожарной команды говорится, что нашли канистры бензина; в свидетельских показаниях сообщалось, что видели мальчика в капюшоне, убегавшего с места происшествия. И хуже всего, нашли брошенный тут же ранец Коньмана, обгоревший, но вполне узнаваемый, на книгах — аккуратные наклейки с его именем и номером класса.
Слоун, конечно, тут же примчался. Он с таким рвением помогал пожарникам, что вначале я решил, будто он — один из них. Потом он вынырнул из дыма, с воспаленными глазами, взъерошенными волосами и такой красный, словно его вот-вот хватит удар — от жары и потрясения.
— Внутри никого, — выдохнул он, и я только сейчас заметил, что у него под мышкой большие часы, и он несся с ними, как нападающий, готовый забить гол. — Решил хоть что-нибудь спасти.
Затем снова рванулся в дом, и от вида его огромной фигуры на фоне пламени у меня сжалось сердце. Я закричал ему вслед, но голос сорвался, а в следующий миг я увидел, как он уже тащит из горящего дверного проема дубовый сундук.
В общем, просто кошмар.
К утру это место огородили, люто-красные развалины все еще дымятся, и в Школе пахнет Ночью костров. В классе только об этом и говорят: сначала исчез Коньман, а теперь еще и пожар. Конечно, поползли немыслимые слухи, будто Главный решил созвать чрезвычайное собрание персонала и обсудить, какие меры следует принять.
Все отрицать с самым убедительным видом — вот его обычная тактика. Достаточно вспомнить дело Джона Страза. Даже «Дуббсова эпопея» упорно отрицалась, теперь та же участь ждет «Крестовый поход Коньмана» (как окрестил это Аллен-Джонс), особенно если «Икземинер» начнет задавать неуместные вопросы в надежде раздуть новый скандал.
Конечно же, назавтра все разнесется по городу. Как обычно, некий ученик все расскажет, и эти новости станут всеобщим достоянием. Исчез школьник. Последовало возмездие — поджог на территории Школы, — вызванное, вполне возможно, издевательствами и преследованиями. Записки не оставлено. Мальчик скрывается. Где? Почему?
Я, как и все мы, решил, что именно из-за Коньмана утром снова прибыла полиция. Они приехали в восемь тридцать, пятеро офицеров, трое в гражданском, один из них — женщина. Нашего участкового (сержанта Эллиса, старого мастера по связям с общественностью и мужским беседам с глазу на глаз) с ними не оказалось, и это должно было меня как-то насторожить, но я был по горло занят собственными делами.
Заняты были все. И но уважительным причинам: половина кафедры отсутствует, компьютеры заражены смертельным вирусом, а мальчики — мятежным духом и бесплодными домыслами; сотрудники на грани срыва, и никто не в состоянии сосредоточиться. Слоуна я не видел с ночи; Марлин сказала, что он надышался дымом и его отвезли в больницу, но он отказался там лежать и, более того, вернулся в школу оценивать убытки и давать показания полиции.
Конечно, считается, пусть и неофициально, что виноват я. Об этом сообщила Марлин, заглянув в черновик письма, которое Боб Страннинг продиктовал своей секретарше и которое теперь дожидалось одобрения Слоуна. Прочесть его я не мог, но вполне представлял и стиль, и содержание. Боб Страннинг стал мастером бескровных coup de grâce[46], накропав десятка полтора подобных писем за время работы в школе. «В свете последних событий... прискорбно, но неизбежно... теперь уже нельзя не придать значения... предоставить длительный отпуск с сохранением жалованья...»
Наверняка есть записи о моих чудачествах, возрастающей забывчивости и странном инциденте с Андертон-Пуллитом, не говоря уже о путанице с аттестацией Тишенса, блейзере Пули и бесчисленных мелких огрехах, неизбежных в работе любого учителя, — и все откомментировано, пронумеровано и убрано до подходящего случая, то есть именно такого, как сейчас.
Затем последуют рукопожатия, скупые признания заслуг («тридцать три года самоотверженной службы...»), краткие, сквозь зубы, заверения в глубоком уважении. А подтекст один: вы стали для нас обузой. Короче говоря, Страннинг готовил чашу с цикутой.
Нет, я не могу сказать, что сильно удивлен. Но я так много отдал «Сент-Освальду», и думалось, что для меня сделают исключение. Не сделали. Машина в сердце «Сент-Освальда» безжалостна, подобно компьютерам Страннинга. И в этом нет злого умысла — простое уравнение. Я стар, я дорого стою, толку от меня мало; сношенный зубчик устаревшего механизма, который уже ни на что не годится. И если предстоит скандал, то на кого лучше всего взвалить вину? Страннинг знает, что я не стану поднимать шум. Прежде всего это недостойно, а кроме того, я не хочу добавлять «Сент-Освальду» лишних скандалов. Щедрая прибавка к моей пенсии, славная речь Пэта Слоуна в общей преподавательской, упоминание о пошатнувшемся здоровье и новые перспективы, которые дает надвигающаяся отставка: чаша с цикутой, ловко запрятанная между лавровыми ветвями и остальными причиндалами.