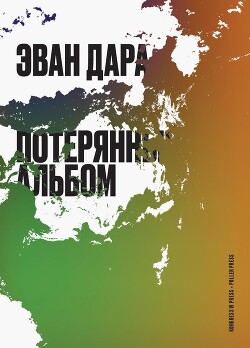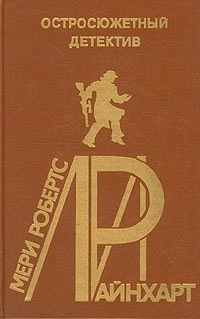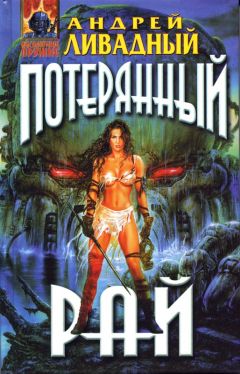…На самом деле я была даже рада, что зазвонил телефон: к этому времени я так и ждала внешнего раздражителя, чтобы соскочить с аттракциона письма; и, услышав второй звонок, оттолкнулась на кресле от колыбели, оставила письмо на сиденье и развернулась на выход, при повороте легонько стукнувшись ступней о ножку колыбели; затем я выскользнула, убедившись, что Ребекка все еще спит; прошла через коридор в свою спальню; там плотное, заглушающее присутствие матраса и постельного белья почувствовалось едва ли не атмосферным изменением; сразу видно, что здесь место покоя; я решила не включать свет:
— Алло, сказала я, взяв трубку;
— Алло, сказал мужской, слегка металлический голос, прежде чем на линии воцарилась тишина:
— Алло? попыталась я еще раз: ал?..
— Теперь в вашем районе, врезался голос, прежде чем линия снова провалилась в шершавую тишину:
— Прошу прощения; кто?..
— Новая услуга в вашей округе, и теперь доступна…
…А, подумала я, оторвав трубку от уха и услышав, как бодрый голос дальше гнет свое: это робот, который электронно набирает номера и просит о внимании; я читала о таких устройствах — даже не раз — и гадала, услышу ли когда-нибудь такой звонок сама; в любопытстве я решила послушать подольше; но уже подозревала, что это не то явление, которое я готова встречать на регулярной основе:
— Труднодоступные свесы и карнизы, без исключения, без риска; статистика показывает, что семьдесят процентов всех домовладельцев пренебрегают полноценной прочисткой стоков несмотря на то, что забитые или плохо прочищенные стоки могут стать благодатной средой для размножения нежелательных паразитов, а медленная коррозия металла стоков может…
…И на этом достаточно, подумала я, положив трубку: больше чем достаточно; звонок был забавным, в данный момент — даже ироничным, но в то же время слегка жутковатым: звонок случайный, но речь звучала с такой целеустремленностью; странное сочетание; поэтому я была рада вернуться в комнату Ребекки, где спокойствие и приглушенный свет оставались непотревоженными; я склонилась над колыбелью и увидела, что она на месте — красивая и на месте, мирно спит; но тут, при взгляде на нее, вулканически взыграл мой эгоизм, и я не смогла удержаться и не поднять ее на руки — всего на миг, только почувствовать ее тепло и твердость, ее бытие; и поэтому какую-то секунду я наслаждалась ее тактильным ощущением, ее теплом, выраженной материальностью; затем вернула ее на место и подоткнула одеяло, и разок усмехнулась про себя, когда она тихо икнула: я всегда находила душераздирающими, волнующими столь малые, неожиданные прорывы, крошечность их срочности; я разок погладила ее по груди и наблюдала, как над ней снова возобладали тишина и умиротворение;
— Итак, где мы остановились? сказала я;
…Я опустилась обратно в кресло; во время ухода все несколько страниц письма сдвинуло с места, но я нашла нужную строчку без большого шума, без большого труда:
— Ладно; итак — вот здесь; итак — И из всего этого можно извлечь гораздо больше, моя славная слушательница, как только ты придешь к применению критерия компетентности, что ты уже, надо добавить, выполняешь для лилии, или котенка, или ребенка, — старая добрая Роб, опять за свое, — Таким образом, резюмируя, подытоживая, короче, Хомского, наделенного сим пониманием неотъемлемого богатства наших биоспособностей, не более чем младенческий шажок отделял от того, чтобы стать универсалистом, каким он и является, и применить свое понимание в политической плоскости… и по биопотребности сделать большой шаг к политической деятельности…
Но довольно: это уже третий ик Ребекки; письмо — а там осталось не так уж много, — может подождать; положив его на кресло, я встала, нашла в колыбели соску и вложила в рот Ребекки, которая уже проснулась: ее ручки и ножки уже охватила непоседливая настойчивость бодрствования; для меня этот переход оставался удовольствием — видеть, как она сменяет передачи, от возвышенной безмятежности к хлопотливому возбуждению; но соску она почему-то не взяла, сплюнув ее в пене слюны; я попыталась еще раз, и снова соска скатилась по ее щеке; ну хорошо, подумала я: мы это просто переждем; я прижалась, и широко улыбнулась, и поцеловала ее в щечку; затем отстранилась и стала одним пальцем гладить ее грудь; сколь мелкие тревоги, думала я, и все же сколь тотальные, сколь автоматические наши реакции; мы созданы большими и сильными, чтобы служить малости; я продолжала поглаживать и улыбаться, потом начала мычать про себя песенку — что-то нестройное, на пониженных тонах, что просто проходило через меня и украшало воздух; это ей поможет, чувствовала я; и в самом деле уже скоро Ребекка затихла и снова погрузилась в дремоту; затем опять икнула; я взяла ее на руки:
— Да, дорогая моя… ты просто обслушалась письма Робин, верно? сказала я;
Я прижала одеяльное тепло Ребекки к плечу и снова дала ей соску; но снова ее не взяли: Ребекка вертела головой от соски; тогда я просто гладила ее по спинке, и это вроде бы, к счастью, подействовало; ее левая ручка расслабленно проползла вниз по моему подбородку, а ее дыхание стало тихим и размеренным; затем она опять икнула; но на сей раз я заметила, что слышу не обычное иканье: вплотную к уху оно казалось глубже, ближе к полноценному кашлю; и тянулось как будто дольше: звук овладевал ее организмом сильнее привычного и кончался не так решительно, как прочие подобные прорывы; я начала ходить с ней по комнате, медленно:
— Да, моя дорогуша, да; сейчас все пройдет, раз, два, три;
Я гуляла с ней по комнате и вскоре услышала, что ее дыхание улеглось до обычного пыхтящего шепотка: очевидно, она соскальзывала обратно в сон; Ну вот, подумала я: всего-то; затем ее ручка расслабилась у моей челюсти, и она глубоко выдохнула; помогало; но когда она снова ворвалась в бодрствование с оглушительным кашлем, тут я ясно почувствовала, что что-то неладно; слышалось в этом кашле что-то — а это было не иканье, но кашель — неладное; дополнительное наличие надсадности, перханья; и, когда я начала баюкать ее у плеча, она заплакала — или попыталась заплакать, поскольку временами кашель врывался и сбивал плач, обрубал и замещал; и я сосредоточила внимание на ее дыхании, и услышала, что она как будто синкопирована, в разладе сама с собой; я вернула ее в колыбель:
— Ну ладно, прелесть моя; сейчас пройдет; просто потерпи;
Я потянулась к умывальнику за ее бутылочкой яблочного сока, но обнаружила, что она пустая; тогда дала ей свой указательный палец, потому что это казалось правильным, будто это поможет — возможно, откроет ей доступ к воздуху; но она не смогла его взять; к этому времени она плакала и кашляла уже припадочно, трудно чередуя одно с другим: плач рос в громкости, пока не прибивался обратно влажным кашлем; и, пока я стояла над ней, смотрела на нее, обхватив ее плечики руками, но чувствуя себя где-то очень далеко, внутри меня что-то внезапно лишилось равновесия или запуталось и потерялось; появилось ощущение, что мне это не по силам, что пройден какой-то неведомый порог, за которым я как мать, несмотря на все книги и подготовку, не смогу себя проявить; ее плач не был обычным плачем, повседневным, который я унимать умела; ее кашель тоже был непривычным — вторжением откуда-то еще; мне пришло в голову, что что-то совсем неладно; а потом я заметила голос — низкий глухой голос, пробуривающийся через меня: Прошу, Ребекка, прошу; прошу, перестань кашлять; прошу, просто перестань; но тут, тут-то она снова закашлялась, и я машинально отдернула от нее руки; я не знала, можно ли ее двигать, можно ли ее вообще трогать; я боялась возможности, что любой шорох усугубит проблему, вмешается в естественный процесс автокоррекции; но я была должна, я была должна до нее дотронуться, и дотронулась: взяла на руки, и услышала ее затрудненное дыхание, и почувствовала ее метания, и понесла вниз…
На кухне я положила Ребекку на стол, смягченный салфеткой; затем разгладила свою юбку плоскими ладонями и пошла за яблочным соком в холодильнике; достала из буфета одну из бутылочек Ребекки и, нервно разлив холодный сок себе на руки и на столешницу, наполнила бутылочку наполовину; но Ребекка от нее отказывалась: мотала головой от соски, не могла организоваться для питья; я отставила бутылочку и, убрав волосы от лица, заметила, что плач ребенка несколько улегся; но кашель в то же время словно ухудшился — исходил откуда-то глубже, звучал чаще, и с каждым разом сгибал ее в животе пополам; и теперь, после каждого кашля, она недолго пускала пену или булькала, а потом задирала подбородок, напрягая шею; в то же время из-за струящихся во мне теперь горячих и холодных порывов, а также из-за полыхающей неподатливости, сковавшей руки и лоб, я застыла — неподвижная, потерянная, не знающая, что делать; и снова я услышала пробуривающий меня голос: Прошу, нет; Ребекка, прошу; прошу, перестань кашлять; и неспособность действовать в связи с мольбой, хоть как-то ей помочь, по-прежнему плескалась во мне влажным пламенем — внутри бились сомнения, паника, испуг и чувство вины: моя дочь страдала, возможно, тяжело — я чувствовала трудности, которые ее тельце не могло выразить конкретно, — но дошла до конца своих возможностей отреагировать эффективно; я видела ее стресс, находилась возле эпицентра страданий, судорог ее тельца, но не знала, что происходит внутри нее, не знала, что делать, и боялась сделать что-то не то; я могла только хватать и отпускать ткань своей юбки; в голову приходило только Прошу, Ребекка; прошу, хватит кашлять; и на краю зрения собрались темные тучи, огненные тучи, будто черные тучи нефтяного пожара — клубящиеся и колыхавшиеся на ветру, — огненные тучи отрицания, бессилия и гнева; в страхе, что тучи меня поглотят, я отшатнулась, ударившись рукой об острый угол столешницы; но зато с этого расстояния в поле зрения попал телефон, висящий на стене рядом с холодильником; я бросилась к нему, сняла трубку и набрала больницу Кловис-Хай-Плейнс, чей экстренный номер когда-то приклеила к холодильнику…