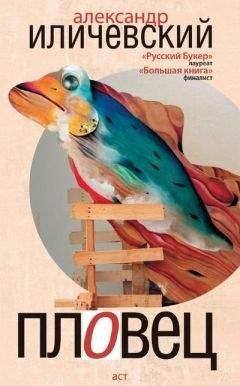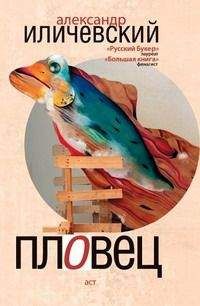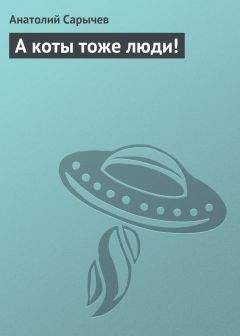Семен огляделся.
Свеча маяка тлеет под низкими лучами солнца. По ту сторону Южной бухты поезд высекает свисток и карабкается в гору.
В высоком объеме неба, заставленного плоскостями оттенков заката, прозрачно стоит лицо девушки.
Улыбка плавает на губах.
Семен удивленно мотает головой, словно вытряхивая из ушей воду, и спешит отправиться дальше.
В конце улицы на балкончике дома, вылезши за край косой, на глазах ползущей тени, греется последним светом крохотный геккон. Бледный язычок выскальзывает набок из щелки рта и протирает монетку глаза. Свесившись, застывает, как у повешенного.
У Семена на проволочном, режущем плечо кукане обливаются потекшим жиром пять радужных кефалей. На блестках крупной чешуи — лишайчики налипшего песка.
Он на ходу с приятным усилием снимает кукан и вытягивает руку, снова любуясь уловом.
Вдруг тяжелый эллипсоид рыб, благодаря восхищенной рассеянности взгляда, отделяется от связки и плывет в потемневших глазах головокружительной линией женских бедер.
I
Со временем я заметил, что если в мире рождается человек с лицом кого-нибудь из великих людей прошлого, то он обречен на слабоумие. Происходит это, вероятно, оттого, что природа в данной форме лица исчерпала свои возможности — и отныне долгое время оно будет отдано пустоцветам.
Один из примеров такого наблюдения — Германн и Чичиков. Сходство профиля с наполеоновским поместило одного в 17-й нумер Обуховской больницы, а другого сначала в объятия отца Митрофана, а затем в кресло перед камином, в котором он и пропал, поморгав огненной трехглавой птицей, покатив, помахав страницами-крылами.
Но есть еще и другой пример, более значимый.
Лицо Юрия Гагарина — очень русское, распространенное в народной среде. С конца 1970-х, еще мальчиком, я стал встречать в электричках и на вокзалах — а куда податься неприкаянному, как не в путь? — сумасшедших людей, смертельно похожих на Гагарина. Лица их были совсем не одухотворены, как у прототипа, а напротив, одутловаты, взвинчены и углублены одновременно. Их мимика, сродни набухшему пасмурному небу, поглотившему свет взгляда, жила словно бы отдельно от выражения, мучительно его содрогая, выводя из себя…
Вообще, не бессмыслен бытующий в народе слух, что Гагарин жив, что его упрятали с глаз долой, поменяв ему лицо, поселив в горе, на Урале. Или — что его на небо взяли живым. Как Еноха. Как бы там ни было, в русских деревнях фотографию Гагарина можно встретить чаще, чем икону. Фотографию, на которой милым круглым лицом запечатлен первый очеловеченный взгляд на нашу круглую мертвую планету.
II
День космонавтики, Сан-Франциско, много лет назад, Van Ness Street, Round Table Pizza, я в гостях у управляющего этого заведения Хала Кортеса, он провожает последних посетителей, запирает за ними — и накрывает на стол.
Из бочки он цедит три кувшина пива, вытаскивает из печки Italian Garlic Supreme, врубает Jefferson Airplane — и спешит открыть стеклянную дверь: две ирландки — темненькая голубоглазая и рыжая — присаживаются к нам за стол, и я с удовольствием вслушиваюсь в их шепеляво-картавый говор.
И вот пиво выпито, кувшины наполнены вновь, и Хал мастерит курево — не мнет, а просто вставляет в опорожненную мной «беломорину» крупное соцветие.
Пальцы его дрожат, с соцветия сыплется дымок пыльцы.
Я настораживаюсь, вспомнив слово «сенсемилья».
И вдруг, говорю, что прежде надо выпить за Гагарина.
Да, черненькая хочет выпить за Гагарина.
Jefferson вещает о Белом Кролике.
За стеклянной стеной течет Van Ness.
Опускаются сумерки.
В это время в Сокольниках дворничиха находит моего друга, накануне избитого шпаной и пролежавшего без сознания всю ночь в парке у кафе «Фиалка».
Соцветие при затяжке оживает рубином и трещит.
Черненькая достает из кармана куртки полпинты Johnnie Walker и отпивает из горла две трети.
Окутавшись облаками дыма, Хал рассказывает о том, как его сумасшедшая мать каждый день звонит ему из Еврейского приюта и кричит, каким подонком был его покойный отец, «вонючий мексиканец». Каждый раз у нее трубку отнимает медсестра.
Рыженькая долго щебечет о чем-то, из чего я наконец понимаю единственное слово Dublin — и тут же вся ее речь вспыхивает «Навсикаей», которую отчего-то знаю наизусть.
Хал вдруг спрашивает, не угробил ли я еще велосипед, который он продал мне две недели назад.
Да, говорю, почти. На подъеме вырвал третьей звездочке два зуба.
На четвертой затяжке встаю и не прощаясь отваливаю через посудомоечную.
Черненькая почему-то идет за мной, но я отталкиваю ее, и она наступает ногой в чан с тестом. Белая голова кусает ее за ступню и не отпускает. Я успеваю выбежать.
Сажусь за руль, улицы летят через горло, тоннель на Geary Street выныривает в Japan Town — и тут я понимаю, что мне безразлична не только разделительная полоса, но и цвет светофора. И тогда я начинаю разговаривать с самим собой, очень громко. Я говорю себе примерно так: «Внимание. Это светофор. Он “желтый”. Поднял правую ногу и опустил на тормоз. Жмешь. Медленно, не резко. Останавливаешься, вот полоса. Хорошо. Теперь светофор “зеленый”. Поднял ногу, опускаешь на газ, он справа. Медленно опускаешь. Медленно! Жмешь не до конца. Молодец».
Наконец, паркуюсь у океана и ухожу в грохочущую темень пляжа.
Ноги вязнут в песке.
Неподалеку от линии прибоя горит костер. У него сидят подростки, поют и глушат Budweiser, связки которого выхватывают отблески мечущегося от ветра костра.
Они не видят меня, я заваливаюсь на холодный песок и нагребаю вокруг себя бруствер, чтоб не задувало.
Глаза привыкают к безлунной темноте, и ряды серых холмов наплывают на переносицу, обнаруживая источник горькой водяной пыли, которая покрывает лицо. Я смотрю на звезды и вижу спутник. Он быстро карабкается по небосводу. Спутник довольно яркий, крупнее Венеры. Возможно, это — космическая станция.
Наконец, я засыпаю — и на рассвете меня будит Юрий Гагарин. Этот полицейский не то чтобы двойник Первого Космонавта, просто очень похож. Он слепит меня фонарем, хотя уже светает. Левой больно сжимает плечо.
Я поднимаю голову. Угли от костра все еще дымятся.
Вдалеке, отгородившись от ветра колясками с коробками и мешками, спят калачиком два бомжа.
Я достаю из кармана мятую фотографию Юрия Алексеевича Гагарина, в скафандре, — вырезал ее вчера из San Francisco Chronicle. Протягиваю полицейскому.
Он всматривается и расплывается в улыбке:
— Got you, man.
Уходит.
Океан за ночь стих, ворочается.
Пасмурно. Пепельные волны теплеют от невидимого рассвета.
Чайка зависает надо мной, вглядываясь в объедки, разбросанные вокруг кострища.
Я вижу, как дрожит перо, выпавшее из строя.
I
Следователь Риккардо Туи — юноша, похожий на морского конька (узкое лицо, копна волос гребнем) — очарован подопечной: молодой женщиной с каменным лицом, отказывающейся давать показания. Восьмой раз он вызывает ее на допрос, как на свидание, чтобы просто видеть.
Это его четвертое дело в жизни, и разгадка уже на мази.
Прямая спина, руки сложены, взгляд опущен долу; пока Надя молчит, он гремит на столе отмычками (достались после дела угонщиков катеров), подбирает потоньше. Положив ногу на ногу, чистит ногти, тем временем соображая, как еще растянуть следствие. Не назначить ли еще какую экспертизу?
Красота мешает ему думать, он никогда вблизи не наблюдал таких женщин.
Что же изобрести?.. Он уже написал рапорт, но ведь, поставив точку, он не увидит ее до суда, не почувствует больше власти над ней. Вдобавок ему горько от ее красоты, в любой красоте есть святость.
Все заварилось с заявления дочери графини: старуха перед самой смертью нацарапала новое завещание (листок поверх одеяла в сучковатых пальцах). Отпечатки с пистолета оказались стерты не все, вот этот указательный палец левой руки, которым сейчас она трогает поверх платья колено, дотрагивался до курка, подушечкой. Вскрытие показало, что графиня откинулась с обширным инфарктом: в лице испуг мгновенно сменился равнодушием. Пороховая крупа на щеке. Гильзу не нашли (булькнула в канал), нашли пулю — в задней стенке шкафа: дверца открыта, две тряпки продырявлены. Баллистик восстановил направление: от виска, парабеллум дернулся, как в руке ребенка. «Завещаю всю свою собственность Наде Штефан». Дата и подпись. Каракули графини похожи на контур гор. Он отмычкой обводит редкий слитный почерк, с наклоном и дрожащими завитками на концах букв.
Итак, гастарбайтерша из Молдавии горбатится сиделкой на графиню. Красивая тридцатидвухлетняя женщина, шесть лет молодости отдала старухе в надежде, что та отпишет ей хоть что-то из наследства. Но вот приходит нотариус обновить или подтвердить завещание, и она подсматривает, что ничего ей не светит. Тогда с пистолетом она встает над старухой, требует составить новое завещание. Парабеллум — из боевого прошлого старухи: графиня Адриана Марино участвовала в Сопротивлении и прятала партизан.