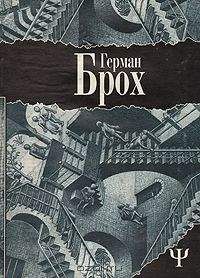Странно только, что его в чем-то обвиняют; он еще раз повторил: "Бедный мальчик… почему он это сделал?" Альфонс с ошарашенным видом выпятился на него: "Да он в газе Веронал — сильнодействующее снотворное средство. тах прочитал…" "Что?" "Да вот же", — Альфонс кивнул на пачку газет, торчавшую у Эша из кармана пиджака. Эш пожал плечами — он совсем забыл о газетах. Там в черной рамке, которая охватывала большую часть полосы, с многократными повторениями на последней странице, чтобы траурное известие дошло до всех его фирм и филиалов, до всех служащих и до всех без исключения рабочих, сообщалось, что господин Эдуард фон Бертранд, председатель наблюдательного совета, кавалер высоких наград и т. п. скончался после тяжелой непродолжительной болезни. В статье на первой странице рядом с почетным некрологом говорилось, что усопший, предположительно, в состоянии помешательства покончил жизнь самоубийством, застрелившись из револьвера. Эш читал все это, но оно его мало интересовало. Он просто констатировал, насколько все-таки правильно было, что фотографию убрали сегодня. Странно, что абсолютно посторонний человек — этот музыкант, смог наделать столько шума вокруг всего этого, С выражением легкой иронии на лице он доброжелательно и успокаивающе похлопал толстяка по жирной спине, заплатил за его шнапс и отправился к госпоже Хентьен. Вышагивая неспеша и с удовольствием, он размышлял о Мартине и о том, что тот уже не сможет догнать его и угрожать своим костылем. И это тоже было хорошо.
Оставшись один, музыкант Альфонс зажал в кулаке виски и уставился в пустоту. Эш казался ему злым человеком, как и все мужчины, которые ходят к женщинам, дабы обладать ими. Он был убежден, что все эти мужчины приносят с собой несчастья. Они казались ему безумцами, несущимися по миру, при приближении которых не остается ничего другого, как покориться. Он презирал этих мужчин, которые глупо и затравленно приносились откуда-то и жаждали не жизни, которую они, очевидно, вообще не видели, а чего-то такого, что лежит за ее пределами и за что во имя своего рода любви они разрушают жизнь.
Музыканту Альфонсу было слишком тоскливо, чтобы четко сформулировать для себя все это; но он знал, что эти мужчины, хотя и говорят о любви с большой страстью, но в виду имеют всего лишь обладание или что там еще под всем этим подразумевается. Его это, конечно, не касается, он ведь в лучшем случае рассеянный человек и опустившийся оркестрант; но он знал, что приняв решение в пользу женщины, окажешься ой как далеко до постижения абсолютного. И он прощал злобную ярость мужчин, поскольку понимал, что она берет истоки в страхе и разочаровании, понимал, что те страстные и злобные мужчины пребывают чуточку за вечностью, чтобы она защитила их от страха, который стоит за спиной и сообщает им о смерти. Он был глупым и рассеянным оркестровым скрипачом, но он мог играть по памяти сонаты и, обладая разнообразными знаниями, вопреки своей печали мог посмеяться над тем, что люди в преисполненном страха стремлении к абсолютному хотят любить вечно, отрицая, что в таком случае их жизни не суждено познать конец, Пусть они относятся к нему с пренебрежением, поскольку ему приходится играть и попурри, и быструю полечку, но он все же понял, что эти загнанные, ищущие абсолютное в земном, всегда находят только символы и подделки того, что они ищут, не зная даже, как назвать это, и созерцают они смерть другого без сожаления и грусти, поскольку бесконечно поглощены своей собственной; они охотятся за обладанием, чтобы быть поглощенным и им, ведь они таят надежду найти в нем прочность и неизменность, которые должны иметь власть над ними и оберегать их, и они ненавидят женщину, ради которой приняли решение ослепнуть, ненавидят ее, потому что она просто символ, который они, преисполненные ярости, разбивают, поскольку они опять переданы во власть страха и смерти, Музыкант Альфонс испытывал чувство сострадания к женщинам: они ведь не находят ничего лучшего, чем попасть во власть этой разрушающе тупой страсти обладания, но они в меньшей степени преследуемы страхом, впадают в больший восторг, когда окружены бесконечным потоком музыки, пребывают со смертью в близких и доверительных отношениях; в этом женщины похожи на музыкантов, и будь ты сам всего лишь толстым оркестровым музыкантом-гомосексуалистом, можно все равно испытывать чувство душевной близости с ними, можно хоть в какой-то степени понять их представление о том, что смерть представляет собой нечто траурное и прекрасное, зная, что плачут они не потому, что их лишили обладания, а потому, что у них забрали что-то, чем можно пользоваться и что можно созерцать, что было хорошим и нежным. О, какой хаос эта жизнь, непонимаемая жаждущими обладания, едва ли понимаемая другими, и все же представление о ней дает музыка, звучащий символ всего мыслимого, устраняющий время, чтобы сохранить его в каждом такте, отменяющий смерть, что-бы в звучании снова возродить ее, Тот, кто подобно женщинам и музыкантам догадался об этом, может позволить себе быть рассеянным и глупым, и музыкант Альфонс ощутил всю тучность своего тела, словно это было хорошее мягкое покрывало, через которое можно было прощупать что-то ценное и достойное любви: пусть люди его презирают и называют оскорбительно бабой, да, он просто бедный пес, и тем не менее для него многообразие вечности доступнее, чем тем, кто оскорбляет его и все же превращает всего лишь маленький кусочек земного в символ и цель своего печального стремления. Он был тем, кому было позволительно презирать других.
Эша ему тоже было жаль, и ему припомнились героические воинственные звуки, сопровождавшие борцов при выходе на арену для того, чтобы их подзадоренное мужество забыло о смерти, стоящей за спиной. Он задумался над тем, не сходить ли ему к Гарри и не постоять ли немного у гроба, но восковый цвет лица внушал ему ужас, и он предпочел набраться и сидеть, рассматривая гостей и официантов, которые суетились вокруг и несли на своих лицах отпечаток смерти.
В тот же час той же ночи с постели поднялась Илона, в свете маленького красного масляного светильника под изображением Богородицы она рассматривала спящего Бальтазара Корна. Он похрапывал, а когда храп прекращался, то это смахивало на смолкание музыки в театре перед ее номером; в сопящий звук его дыхания врывался тогда тонкий свист летящих ножей. Об этом она, конечно, не думала, хотя письмо Тельчера призывало ее вернуться к прежней работе.
Рассматривая Корна, она попыталась представить его без черных усов и как он выглядел еще маленьким мальчиком. Она не знала точно, зачем делает это, но ей казалось, что в такой ситуации Матерь Божья, изображение которой она постоянно видела на стене, скорее простит ей ее грех, состоявший в том, что она использовала Корна перед святыми очами Божьей Матери для греховного удовольствия, и если бы раньше она не заразилась болезнью, то у нее были бы дети. То, что приходилось оставлять Корна, ее не волновало, она знала, что будет кто-то другой, ее не заботило и возвращение к Тельчеру; она не сильно ломала себе голову над тем, что он ждет ее в Кельне и достанется ей, она просто знала, что нужна ему, чтобы он в кого-нибудь швырял свои ножи. Не волновало ее и то, что она должна будет уехать в Америку, она уже достаточно много поколесила по свету. Жизнь ее протекала без надежды и без страха. Она умела бросать людей, но сегодня ощущала себя все еще во власти Корна. На шее у нее был шрам, она соглашалась с тем, что мужчина, которому она изменила и который хотел ее убить, был прав. Если бы Корн изменил ей, то она бы его не убила, а просто облила кислотой. Такое разделение находило свое объяснение, как ей казалось, в ревности: ведь кто обладает, стремится уничтожить, а кто просто пользуется, может довольствоваться тем, что приводит объект в негодность. Это касается всех людей, в том числе и английскую королеву, потому что все люди одинаковы и никто не любит делать что-либо хорошее другому. Стоит она на сцене — светло, лежит с каким-то мужчиной — темно.
Жизнь — это еда, а еда — это жизнь. Как-то один уже покончил с собой из-за нее; это событие мало ее волновало, но думала она о нем охотно. Все остальное погружалось в сумерки, и в сумерках передвигались люди, подобно темным теням, которые то сливались друг с другом, то снова устремлялись в разные стороны. Все творили одно только зло, словно бы им нужно было наказать себя, когда они искали друг у друга утех. Илона даже слегка гордилась, что и она совершила зло, и когда тот покончил с собой, это смахивало на кару и возмездие, которые были признаны за ней Богом за ее бесплодность. Многое было непостижимо, невозможно было мысленно разобраться в смысле происходящего; только когда рождались дети, сумерки, казалось, сгущались, приобретая телесную ощутимость, и было похоже, что мир теней навечно заполняется сладкой музыкой. Наверняка поэтому несет и Мария там, наверху, над красным светильником своего младенца Иисуса. Эрна выйдет замуж и нарожает детей; почему Лоберг не берет ее вместо этой колючей малышки с желтоватой кожей? Она продолжала рассматривать Корна и не находила на его лице ничего из того, что искала: его заросшие волосами кулаки лежали на покрывале, они никогда не были ни нежными, ни молодыми. Ей стало страшно от его тучного с отблесками красного огня лица, на котором торчали усы и босиком она тихонько прошла к Эрне, мягко и расслабленно скользнула под ее одеяло, нежно прижалась к ее угловатому телу и в таком положении уснула.