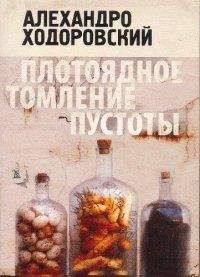Ознакомительная версия.
«Я не знаю, что там, я не читала. Пока я нашла очень старую рукопись – толстую тетрадь в коричневом твердом кожаном переплете, поделенную пополам – первая половина написана по-французски, вторая – по-русски (вот он где упомянутый переводчик! если, конечно, это – перевод). Странно, буквы там и там клиновидной формы, словно, их писал один человек. Странным образом почерк напоминал почерк, которым был записан предыдущий рассказ о Софье. А тетрадь я еще не раскрывала. И судьбы своей не знаю последующей. Страшно? Не знаю».
Она не уходила, не вставала и не уходила. Наверное, она ждала, когда настанет момент ухода. Наверное. Она вернулась в дурацкое состояние правильности и сытости, в котором я нашел ее еще месяц тому назад, и, когда бы не ее слезы по человечеству и человеку, она вовсе не походила бы на человека.
«Я прочла пока только предисловиек русской части рукописи, которым открывается тетрадь: „Стерва ж. и стерво ср. – трупъ околевшего животнаго, скота; падаль, мертвечина, дохлятина, упадъ, дохлая, палая скотина“. (Владимир Даль, „Толковый словарь живого русского языка“). К французской части предисловия нет. Ну, и, собственно, все. Дальше идет повествование. Абсурдная история, абсурдное время. В русской части на измотанной временем бумаге текст записан в дореволюционной орфографии, с „ъ“ и „з“ вместо „с“. Странный почерк, будто человек, записавший рассказ о моей прабабушке Ксении по материнской линии, не дышал вовсе, или, по крайней мере, задерживал дыхание, – точно, нашла – затаивал дыхание, когда писал торжественно, почтительно, и, наверное, влюбленно главный и единственный текст своей жизни».
Глинтвейн давно остыл. Вишневый штрудель засох, превратившись в твердый осколок былой страсти по сладкой жизни, от которой теперь ничего не осталось, кроме седых волос.
«Отведите меня в церковь. Я хочу вернуться. Я хоронила маму по православному обряду, потому что она этого хотела, сама же я к этому равнодушна. Всегда. Теперь я чувствую, что не права. Мне одиноко как никогда. Спасите меня. Умоляю вас».
Я вынужден ее остановить. Настало время для последней тайны рода. Надо дочитать жизнь.
Уже и дочь несется навстречу месту, в котором время пропадает, словно это пережиток прошлого, или это словесная фигура, от которой легко отказаться при появлении новой грамматической нормы или при выборе неопределенной временной формы; и тогда обеспечена победа формы над содержанием; и тогда новая Нина, ставшая Ниной в процессе постижения матери Нины и бабушки Софьи, оказывается не готова к новым испытаниям в виде прабабушки Ксении. Но деваться некуда. Нужно дойти до предела, нужно дойти до Ксении и перейти ее.
«Да, не было царя, но Ксения никогда особенно не чувствовала царевого золота в зените. Но ещё месяц назад в этом мире были верх и низ, воспоминания хорошие и плохие, люди, некоторые из них нравились, другие не нравились вовсе, но был порядок, пускай и испорченный запахом боли и всеобщего предательства, но понятный всем порядок.
Но после октябрьского переворота 1917 года (ей тогда было 17 лет) она однажды ночью увидела сон, в котором царская кровь, – Ксения была уверена, что это была именно кровь царской семьи, – покрыла всю землю, кровь лилась с неба потоками, и это именно была царская кровь. Она оказалась в самом центре потопа и уже было захлебнулась, но проснулась. Последнее, что она увидела, перед тем как проснуться, как море крови покрыло здание вокзала с надписью по фронтону – „Нижний Новгород“.
Она вновь проснулась, – или вновь заснула: она окончательно запуталась, – и ей захотелось плакать, даже не плакать, а выть.
Затем она посмотрела на кровать, слева от себя, где обычно спал Василий, и закричала от страха – она увидела его тело, залитое кровью, и без головы. Почему они убили моего мужа? Кто они? Зачем? Разве он им что-нибудь сделал дурное? Чем он им помешал? Или помог? В таком случае, отчего они не сказали ему – спасибо? Или сказали! Она решила не просыпаться, потому что знала, что это был сон.
Ксения встала, облачилась в траурные одежды и пошла на вокзал. И поехала туда, где, как она предполагала, уже убили ее мужа, который в ее воображении плавал в крови на кровати, в квартире, полной гравюр и старых книг, красных обоев и лепных потолков.
Природа менялась на глазах. Деревья прорастали сквозь туман бесшумно и стремительно.
Напротив сидит рыжеволосая девушка. Она спит, увалившись в угол. Виден только профиль и половина рыжей головы. Вдруг в окно ударило солнце. Ее лицо превратилось в глыбу синюшного цвета. Это уже не девушка, но серая глыба лица. Пожаловала мертвецкая. Девушка спала, вагон мелко трясся. Из открытых окон пахло осенью.
До Нижнего она ехала двое суток. Состав остановился под утро в нескольких километрах от станции. Дальше забиты подъездные пути. Ей казалось – это сон. Странно, она и не предполагала, что во сне, совсем как и в жизни, также кисло пахнет потом, а солдатская разноликая шваль столь же омерзительна.
Дальше придется до станции идти пешком. Да, да. Это – здесь. Уже и полдень. Кругом солдатская шваль. Быдло, с которым приходится считаться, быдло, о котором мы забыли, а оно жило промеж нас, людей, и вот теперь эти монстроидные существа убивают нас.
„Я ненавижу государство, как устройство человеческой жизни. И еще больше я ненавижу государство за то, что оно делает с людьми, заставляя их себе подчиняться. У меня ницшеанская ненависть к государству. Я ничего не буду делать, чтобы уничтожить государство, но я ничего и не буду делать, чтобы его укрепить. Ошибка Василия в том, что он решил совсем отказаться от государства, он свергал не монархию, а государство. Но это быдло не может жить вне государства, которое, по сути своей, неистребимо. И поэтому победит тот, кто государство восстановит, кто одно государство заменит другим. Кто даст этой швали новую власть. Нет. Нет. Какой ужас. Неужели я опоздала. И он уже мертв. Как же так?! У меня все перепуталось в голове. Но вон они идут навстречу. Это идут убийцы. И с ними я. Они уже убили. Но они же не унесли? Признавайтесь, скоты! Или вы унесли моего убитого мужа? Куда вы его унесли, зачем вам труп? Зачем вам расчлененный труп? Отдайте мне! Я похороню моего убитого вами мужа. Прости вас, Господи! А я нет. А куда вы меня-её ведете? Господи! О чем они говорят? Но кто это среди них? Василий! Почему Василий? Ведь их – потусторонних – трое, четвертого там нет, четвертая – я. Как же? Василий – один из них них?! Но ведь Василий убит. У меня все перепуталось в голове. Я ничего не понимаю. Я не могу ошибаться. Небольшое эмоциональное усилие – и вот они, я и Василий, еще живы, еще идем, чужие по чужому миру. Да, да, да! Я ведь только что с ним шла и беседовала о государстве, об ублюдках, которые ввергают страну в хаос, а он признавался мне в любви! Вот идет Василий, потусторонне насвистывает, сунув руки в карманы длинного черного пальто, а рядом я – какая редкая птаха. Неужели она не понимает, что им нужно поскорее отсюда уматывать. Неужели не чувствует. Господи, какая же я дура. Ведь ему осталось жить несколько минут“.
И вслух, в никуда: „Какую чушь я несу“.
И обращаясь к Василию: „Милый, у меня сегодня отвратительное настроение, скверное предчувствие. У меня сегодня пустое состояние души. Глупость сегодня сожрала мой мозг“.
Пахнет гарью и кислым солдатским потом. От рельс, битком набитых мутными людьми вагонов, земли и неба отдает этим всеобщим запахом, который перебивает даже послесловие мелкого холодного дождя, ночью мирившего происходящее. Теперь полдень.
До убийства осталось чуть – несколько шагов, один сон, лучше сказать, два сна, и вот он – эшафот.
„Милый, нам нужно выбираться. Эта солдатня от нас не отстанет. У меня ужасное настроение. Посмотри! Какие самодовольные, тупые рожи. Защитники отечества… Быдло. Народ?! Гниль – это, а не народ. Как же я их ненавижу“.
„Да, да“. – Отрывисто отозвался сухопарый брюнет, с небритым лицом и раскосыми глазами полукровки. Василий продолжил: „Ты знаешь, у меня все время в голове звучит какая-то мелодия. Я не могу нащупать ее очертания. Что-то в ней печальное. А на солдатню не обращай внимания. Плевать. Помнишь наш ночной разговор“.
„Я запомнила. Время – это категория иной жизни, той, которая начнется после жизни материальной. Время – это царство духовной жизни. Мы сразу живем в нескольких измерениях. Время – путь к новой жизни, это успокоение нам, прошедшим тяготы жизни материальной“.
„Да. Время – это напоминание о будущей жизни. Вон нам навстречу одно из напоминаний. Это ты из будущего сна, еще до того, как меня убьют… Что? Для тебя это новость!? А для нее нет“.
Конечно, они были странной парой. И, конечно, выделялись из толпы солдатской швали. Он в черном длинном пальто и черной шерстяной шляпе. Ее зеленые глаза светились бешеным огнем, были полны ненависти и презрения к празднику стихии, охватившей этот черствый мир. От них даже пахло иначе. Да и как могло пахнуть от людей, один из которых в первую же ночь после бракосочетания, произнес с дрожью в голосе: „От нежности к тебе, мне иногда хочется плакать. Я не предполагал, что такое возможно, что на такое способен мужчина“.
Ознакомительная версия.