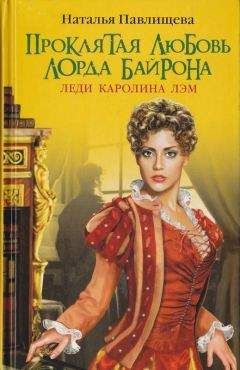– А Шариков тебе что? – узнавал Зворычный.
– Шариков говорит – молодец, я тебя к Красному герою представляю! Видал – спрашивает – противника? А я ему: нет там никакого противника – в Симферополе Ревком, зря я там на песке сидел. – Не может – говорит – быть! – Ну вот – опять же – не может быть: плыви тогда сам на сверку! А извещения тогда шли тихо – телеграфной проволоки не хватало, матерьял ржавый. И верно, через день весь Крым советская власть взяла. Я так и знал, оказывается. Вот тогда Шариков и назначил меня начальником горных недр…
– А Красного героя ты получил? – удивился Зворычный.
– Получил, конечно. Ты слушай дальше. За самоотречение, вездесущность и предвидение – так и было отштамповано на медали. Но скоро на пшено пришлось ее сменить в Тихорецкой.
После чая Пухову никак не хотелось уходить. Но Зворычный начинал дремать, вздыхать – Пухов совестился и прощался, с порога договаривал последний рассказ.
…Ночью, бредя на покой, Пухов оглядывал город свежими глазами и думал: какая масса имущества! Будто город он видел в первый раз в жизни. Каждый новый день ему казался утром небывалым, и он разглядывал его, как умное и редкое изобретение. К вечеру же он уставал на работе, сердце его дурнело, и жизнь для него протухла.
Приходя от Зворычного, Пухов печку топить ленился и кутался сразу во все свои одежды. Дом был населен неплотно: жила где-то еще одна семья, а между нею и комнатой Пухова стояли пустые помещения. Если Пухову не спалось, он ставил лампу на табуретку у койки и принимался читать какую-нибудь агитпропаганду. Ею удружил его Зворычный.
Когда Пухов ничего не понимал, он думал, что писал дурак или бывший дьячок, и от отсутствия интереса сейчас же засыпал.
Снов он видеть не мог, потому что как только начинало ему что-нибудь сниться, он сейчас же догадывался об обмане и громко говорил: да ведь это же сон, дьяволы! – и просыпался. А потом долго не мог заснуть, проклиная пережитки идеализма, который Пухов знал благодаря чтению.
Раз шли они с Зворычным после гудка с работы. Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром.
Пухов чувствовал свою телесную нечистоту, думал о тоске, живущей на его квартире, и шел, препинаясь, тяжелыми ногами.
Зворычный махнул рукой на дома и смачно сказал:
– Общность! Теперь идешь по городу как по своему двору.
– Знаю, – не согласился Пухов, – твое – мое – богатство! Было у хозяина, а теперь ничье!
– Чудак ты! – посмеялся Зворычный. – Общее – значит, твое, но не хищнически, а благоразумно. Стоит дом – живи в нем и храни в целом, а не жги дверей по буржуазному самодурству. Революция, брат, забота!
– Какая там забота, когда все общее, а по-моему – чужое! Буржуй ближе крови дом свой чувствовал, а мы что?
– Буржуй потому и чувствовал, потому и жадно берег, что награбил: знал, что самому не сделать! А мы делаем и дома, и машины – кровью, можно сказать, лепим, – вот у нас-то и будет кровно бережливое отношение: мы знаем, чего это стоит! Но мы не скупимся над имуществом – другое сможем сделать. А буржуй весь трясся над своим хламом!
– Шарик у тебя работает, вижу! – непохоже на себя заявил Пухов. – Не то ты жрать разучился! Помнишь, как ты лопал на снегоочистителе!
– При чем тут жрать? – обиделся Зворычный. – Понятно, мозг любит плотную пищу, без нее тоже не задумаешься!
Здесь они расстались и скрылись друг от друга. Подходя к своему дому, Пухов вспомнил, что жилище называется очагом.
– Очаг, черт: ни бабы, ни костра!
7На сладкой и влажной заре, когда Пухову тепла на койке не хватало, треснуло стекло в оконной раме. Гулко закатился над городом орудийный залп.
В голове Пухова это беспокойство пошло сонным воспоминанием о южной новороссийской войне. Но он сейчас же разоблачил свою фантазию: ты же сон, дьявол! – и открыл глаза. Залп повторился так, что дом заерзал на почве.
«Будеть тебе бухтеть-то!» – не соглашался с действительностью Пухов и стал зажигать лампу для проверки законов природы. Лампа зажглась, но сейчас же потухла от третьего залпа – снаряд, наверно, разорвался на огороде.
Пухов одевался.
«Какой скот забрел с пушками по такой грязи?» – и не догадывался.
На улице Пухову показалось дымно и жарко. Явственно и близко рубцевал воздух пулемет. Пухов любил его: похож на машину и требует охлаждения.
В здание губпродкома ударила картечь, – и оттуда понесло гарью.
– У них нет снарядов, раз по городу картечью бьют, – сообразил Пухов: он знал, что сюда нужна граната.
Было безлюдно, тревожно и ничего не известно.
Вдруг на монастырской колокольне тихо зазвонили. Пухов вздрогнул и остановился, чутко слушая этот звон с перерывами.
Монастырь стоял на бугре и господствовал над городом и степями за речной долиной. В уличный просвет Пухов заметил раннее утро над тихим далеким лугом, заволоченным туманным газом.
От монастыря до мастерских лежала верста. Пухов покрыл ее срочным шагом, не обращая внимания на свирепеющий бой, к которому можно скоро привыкнуть.
В мастерских он не нашел никого. На вокзальных путях стоял броневой поезд и бил в направлении утренней зари, где был мост.
В проходной стоял комиссар Афонин и еще два человека. Афонин курил, а другие пробовали затворы винтовок и устанавливали их в ряд.
– Пухов, винтовку хочешь? – спросил Афонин.
– А то нет!
– Бери любую!
Пухов взял и освидетельствовал исправность механизма.
– А масла нет? Туго затвор ходит!
– Нет, нету – какое тебе масло тут? – отказал Афонин.
– Эх вы, воители! Давай патроны!
Получив патроны, Пухов спросил ручную гранату: невозможно, говорит, без нее: это бой сухопутный – когда я на Черном море бился, и то там гранаты давали.
Ему дали гранату.
– Зачем она тебе, их и так у нас мало! – заявил Афонин.
– Без нее нельзя. Матросы всегда этого ежика пущают, когда деться некуда!
– Ну, вали, вали.
– Куда идти-то?
– К мосту, за рощу – там наша цепь.
Нагруженный, Пухов побрел по путям. Проходя мимо бронепоезда, он заметил там матросов.
Пухов залез на подножку и постучал в блиндированную дверцу. Дверца туго пошла по патентованному устройству, и в скважину просунулся матрос.
– Тебе чего, сыч?
– Шарикова тут нету?
– Нету.
– Распахни-ка мне ход, я приказ тебе дам.
– Ну, сыпь скорей.
В металлическом вагоне парилась тесная духота и веял промежуточный сквозняк. Замки трехдюймовых орудий воняли салом, но кругом было технически хорошо. Сидевший в башне за пулеметом матрос постреливал короткой частотой куда-то в поле, за кирпичные сараи, и пробовал рукою хоботок пулемета: не перегревается ли?
К Пухову подошел большой главный матрос.
– Ты что, братишка? Говори чаще.
– Вдарь-ка, друг, по монастырской колокольне. Там у них наблюдатель.
– Ладно, Федька! По колокольне: прицел сто десять, трубка девяносто – на снос!
Матрос взял бинокль и стал проверять действие снаряда.
Пухов ушел успокоенный. Идя по песчаному балласту железной дороги, он разговаривал в воздух. В синей лощине, закрытой укромным кустарником, шел бой. За железнодорожным мостом спешно работала артиллерия, сокрушая шрапнелью лощину. За мостом, наверное, стоял бронепоезд противника.
Тяжелая артиллерия – шестидюймовки – издалека била по городу. Город от нее давно и покорно горел.
Растопыренные умершие травы росли по откосу насыпи, но они тоже вздрагивали, когда недалекий бронепоезд из-за моста метал снаряд.
На вокзале работал бронепоезд красных, за мостом – белых, в пяти верстах друг от друга. Снаряды журчали в воздухе над головою Пухова, и он на них поглядывал. Одни летели за мост, другие обратно. Но вплотную не встречались.
В кустарнике лощины лежали рабочие – живые и мертвые. Живых было меньше, но они стреляли на ту сторону реки сдельно: за себя и за мертвых.
Пухов тоже прилег и пригляделся. Видны были товарные вагоны, маленький дом полустанка и какой-то железный барак на путях. Мастеровых от белых отделяли речка и долина, всего полторы версты.
«В чего же мы стреляем? – соображал Пухов. – Пули из страха переводим!»
Сосед его, помощник машиниста Кваков, перестал стрелять и посмотрел на Пухова.
– Что ж ты? – спросил его Пухов и выстрелил в шевельнувшийся предмет у станционного домика.
– Живот заболел – часа два бузую с сырой земли.
– А в кого мы стреляем?
– В белых – не знаешь, что ль?
– В каких белых? А где же Красная Армия?
– Она на том конце города кавалерию сдерживает. Это генерал Любославский наскочил – у него конницы – тьма.
– А чего ж мы раньше ничего не знали?
– Как не знали? Это, брат, конница – сегодня она у нас, а завтра в Орле будет.
– Чудно! – сказал Пухов с досадой. – Лежим, стреляем, аж пузо болит, а ни в кого не попадаем. Ихний броневик давно прицел нашел – и крошит нас помаленьку.