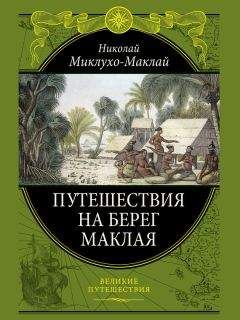Но в девяностых годах прошлого века ещё не была достаточно усвоена мысль о том, что преимущественное право на потребление пищи принадлежит людям господствующей в данной стране национальности, а просто считалось, что оно, по справедливости, принадлежит голодному; на этой основе были развиты социальные учения о распределении богатств, о соотношении труда и капитала, теория прибавочной стоимости и так дальше. Подходящий случай отметить на картоне буквенные изображения «и т. д.», «и проч.», «и т. п.». Следует подпись — «проф. Панкратов». Просто, безо всякого росчерка. Росчерк делают чиновники, профессора — никогда. Перед скромным сокращением «проф.» обладатель вышеозначенного имени добавляет всеми буквами и не без горечи «бывший». И ещё раз, с красной строки — «бывший, бывший, бывший», тем осложняя функции нервной системы. Затем остаток картона заполняется крупной вывесочной надписью, с потугами на стройность и чёткость букв:
Бывший ординарный профессор биологии Казанского университета Лоллиус Панкратус
От усиленного вдавливания карандаша Лоллий Романович чувствует большую усталость. Любопытно, что уже двое суток он ничего не ел, но, по выработавшейся привычке, особенно страдания не чувствует. Он также давно, почти неделю, не курил, чем и объясняется крайняя слабость. Организм, лишённый пищи, умирает гораздо медленнее, чем обычно думают, и менее мучительно, чем вы можете себе представить. Изумительна, например, стойкость некоторых растений. Земля совершенно высохла, а растение держится, даже кажется свежим и благополучным. Правда, оно питается преимущественно воздухом. В последнее, время Лоллий Романович также питается преимущественно воздухом. Умереть трудно. Поэтому случаи смерти только от голода сравнительно редки. Головастики, если их постепенно лишать пищи, уменьшаются в размерах и как бы возвращаются к исходной форме. Бывший профессор Казанского университета Лоллиус Панкратус находится в безвыходном положении. Собственно говоря — приближение конца. На остатке картона он приписывает «конец» — и повторяет его в форме уменьшительной и в разных вариантах, как-то: «кончик», «кончина», «концовочка», «finis coronat opus»[112].
Была бы гораздо почтеннее фигура старого профессора, украшенного сединой свободно ниспадающей гривы, продолжающего свои работы даже и в тягчайших жизненных условиях. Он мог бы, например, за неимением чернил, заканчивать свой труд огрызком карандаша на кусках картона. Вот наконец он подписывает свою фамилию на последнем куске… Исполнен труд, завещанный от Бога мне, грешному… учёный откидывается в кресле (?), голова его медленно опускается на грудь, и он испускает дух. Огорчённая (или обрадованная) хозяйка комнаты продает старьёвщику ничтожные пожитки умершего, не заплатившего за месяц жильца… Спустя десять лет в лавку букиниста заходит любитель рукописей, обращает внимание на странную связку. Уже по первым страницам он догадывается, что перед ним гениальное, нигде не опубликованное произведение, написанное на незнакомом языке. Уловив восторг на его лице, букинист заламывает неслыханную цену — десять франков. Они торгуются целый месяц, и наконец любитель рукописей приобретает труд всей жизни профессора за шесть франков пятьдесят сантимов (тут тонкий символ: стоимость скромного обеда при-фикс). В заключение появляется в печати французский перевод замечательного труда по биологии, написанного забытым казанским учёным, умершим от голода в парижской мансарде. Фамилия, конечно, перепутана, в сноске пояснено, что город Казань находится в Сибири, на левом берегу Днепра, был населён чехословаками и срыт до основания раг les bolcheviks[113]. О гениальной работе говорит печать всей Европы, и имя профессора попадает в книжку, на корешке которой осыпается одуванчик. Автор этой трогательной ерунды хватает томик с одуванчиком и швыряет его в гнилую морду старой сволочи Европы, изобретшей машину для резки картона, паспорт, парламент, национальность и теорию прибавочной стоимости. При несколько большей сдержанности в выражениях — можно бы сделать профессора героем приятной повести или говорящего фильма.
Но Лоллий Романович со дня ухода чехословаков из города Казани не удосужился вернуться к прерванным учёным работам и тем испортил свою биографию. То ли он испугался, то ли просто — необъяснимая халатность; человек другой, более почтённой нации никогда бы себе этого не позволил. Бежали минуты, шли дни, плелись года, старело тело, слабел дух — и вот уже кто-то стучится в дверь.
Не поворачиваясь, Лоллий Романович говорит:
— Войдите.
И по лёгкому покашливанию, предшествующему словам привета, угадывает, что его пришёл проведать единственный возможный посетитель — дорогой Тетёхин.
* * *
Неприличный вопрос вольного каменщика:
— Вы сегодня кушали, Лоллий Романович?
— Видите ли, дорогой Тетёхин, кушают только господа, дети и беженцы из западных губерний. Вас, вероятно, интересует, ел ли я сегодня? Во всяком случая, я ещё не курил.
Егор Егорович молча кладет на стол открытый портсигар и застывает в раздумье. Оба курят. Лоллий Романович сидит на месте, Егор Егорович погружается в туман, шатается и на глазах Лоллия Романовича начинает сидя плавать по комнате. На профессора раздражающе действует свет из окна, которое медленно качается, и он охотно принял бы меры; но не может встать из-за дрожи в руках и ногах. Недокуренная папироса падает на пол и забавно подпрыгивает, маячащая в дыму далекая фигура дорогого Тетёхина зачерпывает воды из ручья и выстукивает холодным предметом дробь по зубам профессора, который наконец возвращается из небольшого путешествия.
— Вы бы прилегли на минуточку, а потом мы пойдем закусить, потому что я ещё не завтракал. Я отворю окно, вам станет полегче; и воздух сегодня чудесный, совсем весенний.
Действительно — на дворе весна. Удивительна эта способность природы ни на что не обращать внимания и гнуть свою линию. Казалось бы: причём тут почки, листочки, щекотанье ноздрей живыми струйками кислорода? И газеты те же, и те же кровавые туши в мясных лавках, и радикалы щупают портфели, и теесефы дудят негритянским горлом, и густым потоком течёт по клоакам продукт человеческих потуг — при чем тут весна? И все-таки весна из полей вторгается в вонючий город и держится на уровне приблизительно четвёртых этажей. Заглянув в окно, она чихает от дыма и спешит дальше; её загоняет в город любопытство и природная весёлость, хотя было бы проще и естественнее копошиться в земле и развёртывать зелёные листочки.
Приподнявшись на локте, профессор говорит:
— До удивительности вам идёт роль благодетельного ангела. Пожалуй, сейчас я уже мог бы выкурить папиросу без последующих театральных эффектов.
— Выкурим после, закусивши. Только вот хорошо ли вам выходить? А то я могу принести сюда.
Они решают все-таки выйти. Шофёрский ресторанчик, при всей неказистости, известен доброкачественностью продуктов и дешевизной. Разговор начинает Егор Егорович после второго блюда, то есть после варёных овощей, ещё предстоит мясное.
— Я ведь не просто к вам шёл, Лоллий Романович. У меня в голове планы и планы. Множество новостей личной жизни. А кстати, я с похорон большого человека, но это между прочим.
— Профессор усердно жует и запивает кисленьким вином с водой. Настоящее, таким образом, сносно; будущее не представляется важным. У профессора побаливает зуб, и вообще зубы становятся негодными. В старости это естественно и неизбежно. Егор Егорович продолжает:
— События таковы, что мой сын Жорж, он ведь француз, французский инженер, получил место в Марокко, Это прямо замечательно! Мы теперь закажем по антрекоту? Я думаю — с жареной картошкой, её дают много. И вот давайте-ка чокнемся.
Они чокаются. Лоллий Романович, дожевав зелень больным зубом, окидывает собеседника приветливым и несколько удивлённым взором: откуда взялся этот чудак Тетёхин? А впрочем — отличный человек. И с неожиданной жадностью допивает свой стакан, даже зажмурив глаза.
— Получил в Марокко, и неплохие условия. Уж что он там будет созидать — не могу вам сказать; вероятно, он что-нибудь может, раз доверяют. И вот мы говорили с Анной Пахомовной, не поехать ли и ей в Марокко с Жоржем? Будет вести его хозяйство, а то уж он очень молод. Он теперь самостоятельный. Жорж неплохой мальчик и очень рассудительный; как-то они это умеют, такие практичные, прямо замечательно. Стал даже важным, все-таки и место и жалованье, приятно ему. Зовет с собой мать, ну, а мне так, конечно, нечего делать, никак не устроиться, я бы остался.
Жевать мясо больнее, чем зелень, но в мясе чувствуется сила. Только на этом блюде Лоллий Романович догадывается, что был голоден и, пожалуй, все ещё голоден, даже больше прежнего. Он усиленно налегает на хлеб и теперь слушает внимательно.