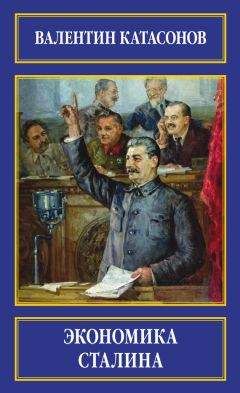Ознакомительная версия.
Легко и просветленно сунул Аугуст свой чемодан назад в рундук, посидел еще немного в зелено-лиловых сумерках шикарного купе, наслаждаясь тугой податливостью этих роскошных, воистину княжеских вагонных нар под собой и, растягивая удовольствие, начал стелить постель. Белоснежные на ощупь простыни хрустели под пальцами и манили обещаниями медовых ласк, пуховая подушка дышала взволнованно, заглатывая руки в нежные глубины свои, и одеяло — невесомое одеяло — грело от одного лишь прикосновения к нему. Аугуст лег и застеснялся самого себя: наслаждение, которое он испытывал, граничило с извращением. Когда он лежал так в последний раз? Где? В утробе матери? Разве что там, потому что позже — ни разу. Освоившись немного и привыкнув к чувству абсолютно поросячьего плотского удовольствия, Аугусту страстно захотелось усилить это наслаждение еще больше. Удостоверившись, что Буглаев спит, Аугуст разделся донага и забрался в простыни голяком, обмирая от избытка тактильных ощущений и слегка пошевеливаясь, чтобы максимально по-справедливости распределить это удовольствие между всеми клеточками кожи, в равной степени заслужившими награду за тот «самоотверженный труд», который она совершала в лагере, будучи там не нежной человеческой кожей вовсе, но шкурой, отданной на растерзание миллиону кровопийц. Господи! Ну зачем Ты создал столько аспидов — вшей, клопов, оводов, клещей? Только для того, чтобы я к Тебе взывал почаще, что ли? И Аугуст заулыбался, поняв мысленный ответ Господа: да, он ниспослал человеку кровопийц для того только, чтобы человек мог почувствовать однажды, как блаженно живется без них…
Так лежать и нежится Аугуст готов был хоть до прихода вечности, но вдруг сообразил, что может в любую секунду уснуть, прямо вот так вот — в голом состоянии. Тогда он снова натянул на себя нехитрое бельишко свое — но тоже свежее и чистое, неизвестно когда постиранное и выглаженное Манефой Потаповной, забрался в ласковые объятия постели повторно, пристроился поуютней и мгновенно уснул.
Его разбудил толчок. Поезд стоял. Станция какая-то. Электрический свет заглядывал в купе с перрона. За окном бушевали люди: топотали, стучали, кричали; засаленные осмотрщики прозванивали колеса своими длинными молоточками, в коридоре хлопали двери, кто-то натужно кашлял, другой шутил: «проклятые рудники!»… Нет, не с зоны клиенты: лагерники про рудники так не шутят — при всем их чувстве юмора…
Аугуст бросил взгляд напротив. Буглаев лежал на спине с широко открытыми, мертвыми глазами и не шевелился. «Ей, Борис», — позвал его Аугуст. Никакой реакции. Аугуста кинуло в жар: помер! «Эй, ты помер, что ли, эй!», — Аугуст вскочил в панике и стал шарить по стенке в поисках электрической кнопки включателя. Но кнопки не было. Он забыл, где она приделана, где он ее видел… Аугуст заметался по купе…
— Я тебе сказал уже как-то, что глупо умирать, пережив лагеря. С чего ты взял, что я подох? С чего бы это вдруг я должен подохнуть? — раздался голос Буглаева.
— А с водки твоей, вот с чего! — резко крутанулся на месте Аугуст, смяв коврик на полу и падая на свою полку, — чего не мигаешь?
— Не мигается — вот и не мигаю. А скажи-ка мне, братец-Август, такую вещь; у вас, католиков, там, на Волге еще Бог сохранился, наверное; это нашего, православного приравняли к опиуму и отменили… Так вот, хочу я тебя спросить — ты проповедей успел наслушаться, небось, об истинах земных и небесных: если Бог на человека испытание насылает и через муки человека прогоняет, то награждает ли он его потом при жизни еще хоть чем-нибудь, или только на том свете, которого скорей всего нету? Диалектический материализм на этот вопрос ответа не дает. Понимаешь, какая штука: если мне страдание как испытание ниспослано было, и если я это испытание выдержал: рук на себя не наложил, другим помогал как мог, справедливым старался быть, то положено ли мне какое-то вознаграждение с точки зрения божественной справедливости еще на земле, при жизни? Я не имею в виду личный остров в океане или длинный лимузин. Я имею в виду другое: радость сердца. Положена она мне или нет? Потому что если мне после всего и дальше, до самой смерти в тоске жить уготовано, то значит — Бога нет. А если он все-таки есть, то возникает вопрос: зачем же он промучил меня всю жизнь, ради чего? Чтобы я предстал пред ним однажды, измученный и озлобленный и сказал ему: «Ну и сволочь же ты, Господи!». Ради этого? И зачем ему это? Садист он, что ли? Так если он садист, то это уже не Бог, а дьявол. Может быть, в этом весь фокус?: Бог давно сбежал, а на его месте дьявол сидит? Эх, Август, сказки все это — что про Бога, что про дьявола… С другой стороны: если Бога нет, Август, то зачем тогда человек? Самопознающая материя — это не может быть само по себе, что-то за этим кроется, чья-та высшая воля… Что пасторы твои говорят об этом, а? Я хочу, понимаешь ли, чтобы мне при жизни еще воздалось… Хотя ладно, забудь: если бы попы ответ знали, мир бы давно уже другим стал. Никто ничего не знает… — Буглаев закрыл глаза, и Аугуст с облегчением лег на свою полку: «Главное — живой; блажит — и пусть блажит. Проблажится и успокоится».
Состав шевельнулся вперед-назад, дернулся, прополз немножко, опять остановился, содрогнулся сталью, затих; вагон ушел в тень.
— Бог внутри у каждого человека, а не снаружи, — сказал Аугуст в темноту.
— А, в сердце моем: да, я про эту версию слышал. Ну, и где он был, когда меня за третий закон Ньютона к полярному кругу тащили? Спал как раз? А где он был, когда я звонким котяхом замерзал на Колыме, уже зедеревенел? Нет, Януарий ты мой разлюбезный — не Бог меня от лагерей спас, не он меня вытащил. Если он и существует, то ему наплевать было на меня все это время — а сверху ли, с облачка белого, или изнутри, из сердца моего он орудует, или, наоборот, бездействует: какая мне разница?… А может, и более того: не он ли сам, если он есть, меня туда спихнул зачем-то? А я взял, да и выжил. Сам выжил! Всем назло выжил! Ему назло выжил!
— Несправедливо говоришь, дурак пьяный. Сколько наших под корнями лежать остались? А ты живой.
— Да, я — живой. А тех за что — под корень? Кем они мечены? Им, Богом? За что?
— Не знаю. Но ты про компенсацию спрашивал за свои страдания. Так вот же они: домой едешь! Живой! Вот же дурак!
— Что, домой? А, ну да, конечно: домой еду…, — Буглаев замолчал вдруг, и больше не пикнул: угомонился, наконец.
Когда вагон снова попятился, а затем рванул вперед и вплыл в полосу света от вокзального прожектора, Аугуст, скосив глаза, увидел, что Буглаев лежит все так же на спине с широко открытыми, мертвыми глазами и смотрит в потолок, не мигая. Аугуст вздохнул и отвернулся к мягкой стенке. Долго еще следил он за мельканием невнятных теней в купе, но потом состав вырвался на простор прямого прогона, наверное в степь, вошел перестуком колес и плавным покачиванием в равномерный ритм, и убаюкал все живое в поезде, за исключением, разве что, машиниста и кочегаров, торопящих своего лоснящегося, горячего железного зверя сквозь черный космос, чью слепую бездну локомотив отчаянно бурил дрожащим прожектором, и отбивался от нее длинными железными локтями, и заплевывал ее высокими, заполошными фонтанами рыжих искр.
Утром «маршал Жуков» принес им горячего, сладкого чаю в серебряных подстаканниках, и потом полдня подносил по их просьбе еще и еще: они все не могли напиться чаю всласть. Да и сама это процедура — со стуком в дверь, вопросом «разрешите?», почтительной позой проводника — ради одного этого хотелось пить чай опять и опять. Все это было прямо как в некоем фантастическом, волшебном театре, где они были одновременно и главными героями и зрителями, любующимися собой — свободными чаедувами в мягком купе скорого поезда. Да, они были героями! Не на картинке, а живые. Живые! В это все еще плохо верилось. И может быть для того, чтобы поверилось поскорей, и поскорей забылось прошлое, они избегали выходить лишний раз в коридор. Ибо там постоянно ошивался, покуривая, майор НКВД в безупречно отглаженной форме, и норовил вступить с каждым в беседу: майору было скучно в поезде. О чем они могли с ним говорить?: о нормах дневной выработки на лесоповале? Или о том, как быстро дохнет человек на сорокаградусном морозе без жратвы? Одно время у них было даже подозрение, что майор нарочно торчит возле их двери, чтобы подслушать и понять что они за типы. Чтобы проверить свое подозрение, не выдержав испытания засадой, Буглаев в какой-то момент резко сдвинул дверь купе. И вот вам пожалуйста: он был тут как тут, красавец этот толстозадый: перекрывал своей жопой весь коридор и пялился в чужое, можно сказать, окно.
— Прошу многоуважительно извинить, товарищ военный офицер, — закричал Буглаев, — очень боюся обоссаться: восемнадцать стаканов чаю выпили! Пропустите, пожалуйста, в самом срочном порядке до уборной, а то как бы мне Вашу добротную галифе не попортить! — и он, толкнув майора в зад всем телом, ринулся мимо него в сторону туалета. Обиженный офицер, поджав губы, ушел на свою половину, изображая и лицом и всей своей квадратной фигурой, вылепленной из тугого сала, само оскорбленное достоинство, увенчанное злобной мыслью: «Иш ты, шваль перекатная! В мягких вагонах они путешествуют, понимаешь! Давишь их, давишь, — а они все не переводятся, понимаешь… Ну ничего, ну ничего: еще не вечер, граждане хорошие: еще потребуются на лесоповале рабочие руки, понимаешь…».
Ознакомительная версия.