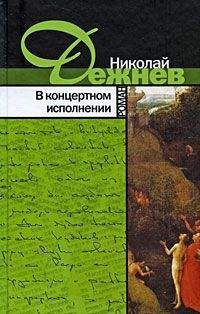— Идею вы ухватили верно! На этот раз все будет без дураков: покушение есть покушение…
— А если трагик не согласен, его убирают?.. Что ж, пожалуй, мне больше подходит этот вариант, — улыбнулся Лукин. — Все, чего хотел, я достиг, а остальное меня уже не волнует. Смерть тирана всколыхнет народ, неизбежно наступит отрезвление…
— Вы чрезвычайно высокого мнения о народе, — усмехнулся Эргаль. — В лучшем случае это толпа, а с моей точки зрения — стадо. Феномен жизни в том и состоит, что человек есть животное, способное выжить в любых условиях. Что ж до, как вы изволили выразиться, «смерти тирана»… — Эргаль посмотрел на Серпина: — Покажите ему фотографии!
Следователь потянул на себя ящик стола, достал из него пачку пронумерованных снимков и протянул арестованному. Лукин с интересом посмотрел на верхнюю фотографию. Сделанная с расстояния около метра, она запечатлела лежащего на полу Сталина с аккуратной дырочкой во лбу, точно между бровей. Не оставалось сомнений, что он был мертв, но что-то уже в самой непочтительной манере снимать вождя в таком виде настораживало. Лукин взял второй снимок. На нем все было то же самое, но на лице отсутствовали знакомые каждому усы. Страшная догадка поразила его, он вытащил из пачки последнюю фотографию. Человек на ней был похож чертами на Сталина, но и только. Стриженную наголо голову пересекал длинный шрам.
— На Колыме, где он сидел за бандитизм, кличка его была Иосиф. — Серпин взял из стола вторую пачку фотографий. — Здесь, если вам интересно взглянуть, двойник Горького, между прочим, актер Ленинградского областного театра. Можно было, конечно, попросить самого Алексея Максимовича, но решили не рисковать…
Лукин поднял потерянный взгляд на следователя.
— Игра есть игра! — пожал плечами тот. — Вы занимались декорациями, а мы позаботились об актерах. Впрочем, надо признаться, мы до последнего не знали, как произойдет покушение и будет ли оно вообще…
— Теперь, когда вы все знаете, — вступил в разговор Эргаль, — вам надо быстро, практически сейчас, принять решение. Конечно, можно вас сломать, но вы нам нужны полным сил и желания сотрудничать — в этом случае мы всенародно объявляем о покушении и даем ход делу. Свободу не гарантируем, но жизнь долгую и комфортабельную пообещать можем. В противном случае не было в природе ни покушения, ни вас.
Серпин потыкал концом папиросы в пепельницу, сказал:
— Решайте, вы человек сильный! Я лично вам даже завидую: так любить женщину и не спросить о ее судьбе, не обмолвиться ни словом. Впрочем, здесь вы тоже ошиблись: человек вашей профессии не имеет права на личную жизнь. А она вас любила… — В голосе следователя прозвучали мечтательные нотки, но он тут же себя оборвал. — Видно, никогда не привыкну к таким зрелищам, слаб до бабской красоты! Очень ей не хотелось умирать…
В следующее мгновение Лукин был уже на ногах. Одним движением руки он перевернул на Серпина стол, брошенный с нечеловеческой силой стул смел Эргаля. Лукин рванулся к двери. Она распахнулась ему навстречу, на пороге, вскинув винтовку к плечу, застыл конвоир. Лукин сделал еще шаг. Васильковый удивленный глаз смотрел на него поверх планки прицела, Лукин отчетливо видел, как от волнения у мальчишки ходуном ходят, трясутся губы.
— Не стрелять! — Серпин барахтался, стараясь выбраться из-под стола, но было уже поздно. Ударил выстрел. Лукина отбросило назад, на мгновение поймав равновесие, он сделал еще шаг и повалился на пол. Красная пелена, как кровь по воде, расползалась у него перед глазами. Он вдруг увидел того красноармейца в купе вагона, его забинтованную голову и направленный ему в грудь ствол револьвера. У него тоже были мальчишечьи васильковые глаза… Отсрочка?
От паркета исходило тепло, он вдруг почувствовал такой знакомый, несущий множество воспоминаний детства запах разогретого воска. В белой беседке высоко на обрывистом берегу реки девушка повернула к нему голову, сказала, кусая губы, чтобы не плакать:
— Тень птицы на времени волнах…
— Что? — Лукин рванул душивший его воротничок гимназического мундира. Ветерок с реки ласкал его разгоряченный лоб. — Что ты говоришь?
— Я говорю: это — твоя жизнь, — ответила девушка, и он увидел, как слезы медленно покатились по ее щекам.
— Аня! — крикнул Лукин, но холод омертвения уже подобрался к горлу, сковал застывшие губы. — Аня…
В ласковом и теплом Черном море, у подножия горного массива Карадаг есть подводная пещера. В самом узком месте этого тоннеля стены его сходятся настолько, что скребут по телу ныряльщика. В этой пещере живет ужас. Находятся смельчаки, что проныривают пещеру насквозь, но и они вечером, за стаканом легкого крымского вина, признаются: был момент, когда жуткий, животный страх брал за горло, когда глаза из орбит и единственная мысль — назад! Спасали слова старика: только вперед, туда, где брезжит едва различимый свет! Иногда и сам старик сидит тут же за столом, молча прихлебывает вино, но потом как-то незаметно исчезает, чтобы наутро появиться на своем месте у входа в пещеру. Он высох и почернел от солнца, его никто не просил, не нанимал спасать жизнь молодых и здоровых — он сам. Такая, видно, выпала судьба.
С испытанным когда-то первобытным ужасом не увидеть солнечный свет Анна открыла глаза. Как тогда, до боли сжимало грудь и солнечные блики, будто через многометровый слой воды, играли на чем-то белом высоко над головой. Постепенно из радужного марева выступили матовый плафон и угол стены, и такая же белая, как все вокруг, шевелившаяся на ветру занавеска. На улице за открытым окном была весна, Анна знала об этом каким-то внутренним знанием, потому что иначе быть не могло. Солнечный луч, дробясь в хрустале вазы, разноцветными пятнами играл на скудной обстановке больничной палаты. Анна вздохнула полной грудью и села в кровати.
— Проснулась, дочка? Слава тебе, Господи! — Мягкое, доброе лицо старухи выплыло откуда-то сбоку. От нее пахло чистотой старости. — А я уж, грешным делом, начала сомневаться — и что это за диагноз такой: сон летаргический!
Медленно поворачивая голову, Анна обвела палату взглядом.
— Где я? Я ранена? Не скрывайте от меня, я знаю, что в меня стреляли!
— Да ты ложись, дочка, ложись, — забеспокоилась нянечка. — Бредишь ведь, видать, до конца-то не проснулась! Не думай ни о чем, отдыхай. Тебя здесь все любят. — Старуха помогла Анне опуститься на подушку, положила ей на лоб легкую сухую руку. — Вон, посмотри, какие он принес тебе цветы!
Анна скосила глаза на букет.
— Лукин, милый мой Лукин!
— Нет, девочка, его как-то по-другому звали… — Нянечка нацепила на нос очки, прочла по лежавшей тут же на тумбочке бумажке: — «Те-лят-ни-ков… Сергей Сергеевич». Он и телефончик свой оставил на случай чего…
— Телятников?.. — удивилась Анна. — Телятин! Так это же мой дядя! А Серпин зачем-то сказал, что его расстреляли!
— Нет, — не согласилась упрямая старуха, — какого-то там дядю я бы к тебе не пустила! Он мне штамп в паспорте показывал, все чин чином: законный супруг! Ты, милая, совсем, видать, зарапортовалась, родного мужа не помнишь! Смотри, не проговорись нашему профессору, а то у него не забалуешь! Так и запомни, если спросят: Телятников — законный супруг!
Успокаивая больную, старуха провела ладонью по ее щеке. Из чахлого садика повеяло чем-то до боли знакомым. Анна закрыла глаза. Нечто странное и необычное происходило с ней, и понимание этого постепенно проникало в ее сознание. Мир, в котором разглагольствовал приторно-ласковый Серпин, мир с людьми в черных кожаных куртках и солдатами с винтовками, мир, где огромный казенно-серый город нависал над ней, сочился страхом из темных подворотен, — этот ущербный мир сам собой стал терять четкость очертаний, сдвинулся куда-то в сторону, и его место заняло беспокойство. Анна вдруг совершенно отчетливо поняла, что все самое дорогое, все, чем она жива, находится в страшной, смертельной опасности. «Надо бежать! — решила она. — Надо спешить и во что бы то ни стало успеть».
Резко сев на кровати, Анна спустила ноги.
— Евгения Ивановна, — сказала она, совершенно точно зная, что именно так зовут нянечку, — Евгения Ивановна, голубушка, принесите мою одежду. Мне надо идти!
— Ишь чего надумала! — удивилась нянечка. — Завтра будет обход, тебя со всех сторон посмотрят, обследуют, вот тогда и ступай. Да и слаба ты еще, дочка, куда тебе идти-то?
— В церковь! Хорошо бы в храм Христа Спасителя…
— Да его годиков шестьдесят как взорвали! При мне и сносили. К нам в окно кусок мраморной доски залетел. Хорошо, всех вывезли, а то аккурат бы убил. Возвращаюсь под утро, а он на моей кровати лежит, а на нем имя золотом, — погиб сердечный в войну с французом…
— Да, я теперь вспоминаю, — нахмурилась Анна. — Мы тогда в подворотне стояли: я, дядя и Лукин… Куда же мне тогда? Понимаете, Евгения Ивановна, человек пропадом пропадает, а в нем вся моя жизнь. Я без него жить не хочу. Мне бы в такое место, где свято и светло, мне обязательно надо, чтобы Он меня услышал! Ведь не может же Он не услышать, так не бывает, правда?