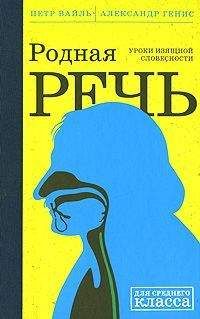Ознакомительная версия.
Максиму было девять лет, когда отец, журналист-международник, взял его с собой на выставку неформальных художников, которую позже стали называть бульдозерной. Он был ошеломлен, как бывает ошеломлен мальчик из приличной семьи, впервые увидевший обнаженное женское тело. Он любил рисовать, был первым в изостудии при Дворце пионеров. Но такого не видел никогда. Даже не подозревал, что жизнь может быть такой, как на этих странных картинах Рабина, Немухина, Неизвестного. Он только позже узнал их имена. Потрясением был и вид бульдозеров, сметающих грязными ножами беззащитные полотна. Отец чего-то перепугался, задергался, быстро увел сына с пустыря, не дал досмотреть.
После школы Максим сунулся в Суриковский институт. Принес картинки (художники никогда не говорят картины или холсты, просто картинки), не похожие ни на что. Его завернули. Но он увидел работы ребят, которых приняли, и сделал выводы. После двух лет в армии, которые просидел в Ленинских комнатах, оформляя наглядную агитацию, повторил попытку с правильными работами. Приняли. Так и пошло, для института и Худфонда гнал заказуху, небрежно, левой ногой, что сообщало его портретам знатных животноводов и Героев соцтруда моцартовскую легкость, над своими картинками работал долго, трудно, невольно уподобляясь писателям, которые одно пишут для продажи, для жизни, а другое для себя, в стол — для вечности. И не дай Бог однажды прочитать написанное чужим, невлюбленным глазом. Так, как посмотрел на свои картинки Максим.
Мертвыми были его картины, хотя знатоки говорили про них: «Здесь что-то есть». И ему самому казалось, что есть. А если еще нет, то вот-вот будет. Вот-вот, и мир расколется, как спелый арбуз, обнажит свою сущность. Не раскололся. Жизнь потеряла смысл. Осталось одно: выйти на Садовое кольцо и тормознуть такси.
Путь от решения до исполнения решения полон таким количеством унизительных бытовых мелочей, что часто до исполнения не доходит. Человек, надумавший свалить из этой гребаной страны, должен быть готов к отказам, зимним ночным очередям в ОВИРы, бесконечному хамству чиновников. Человеку, решившему покончить с жизнью, нужно понять: а каким образом с ней покончить? Трудный вопрос. Повеситься? Неэстетично. Наглотаться таблеток? Как-то по-дамски. Прыгнуть из окна? Четвертый этаж, ненадежно. Лучше всего застрелиться. Быстро и просто. Но это графу Вронскому было просто. Взял пистолет и готово. А где его взять? Не бандитский Нью-Йорк. И даже не Мехико, где отец последние годы работал собкором ТАСС и где оружие продавали в каждой лавчонке, отчего очень высокий уровень преступности. Жутко высокий, хоть на улицу не выходи.
Эти же мысли, в плоскости сугубо практической, занимали и водилу.
— Есть у меня корешок в Туле. Там с этим делом проще, — вслух рассуждал он, медленно, как бы в нерешительности, двигаясь по Садовому кольцу. — Но до Тулы пилить и пилить. Попробуем сначала в Москве… В какие башли думаешь уложиться?
— Пятихатника хватит?
— Может, хватит. Может, не хватит. Откуда мне знать, что почем?
— Штуки?
— Штуки, думаю, хватит.
— Давай так, — предложил Максим. — Штука у меня есть. За сколько ты договоришься — твои дела. Хоть за стольник. Разница тебе. Это будет твоя драхма.
— Драхма — это монета?
— Да, плата Харону за переправу через Стикс. Это река мертвых. А Харон — лодочник.
— Когда-то читал. Мифы Древней Греции. Я, значит, Харон?
— Вроде того.
— Ну и дела! Кем только не был, а Хароном не приходилось. Ладно, поплыли.
Он прибавил газу.
— Мы куда? — спросил Максим.
— В Марьину Рощу…
Ненаписанные рассказы (правильней, недописанные, непрописанные) тем хороши, что избавляют автора от ненужных подробностей, а читателя от необходимости пробегать их по диагонали. Так рассказ приближается к краткости гениальных шекспировских ремарок. «Ночь, берег моря, буря». Что еще надо? Ночь, старый квартал Марьиной Рощи. Точка. Кто не знает, самый криминальный район Москвы с жуткими коммуналками. Водила уходит, Максим терпеливо ждет. Он не думает о том, что ему предстоит, он вообще ни о чем не думает. Водила возвращается.
— Пусто. Но наводка есть. Один мент в Химках.
— Мент загонит свой пистолет? Ты это хочешь сказать?
— Не свой. У них бывают левые стволы.
Выехали на Садовое.
— Слышь, парень, а ты кто?
— Да какая тебе разница!
— Ну как? Интересно.
— Художник.
— Хороший?
— Нет.
— Не платят?
— Платят.
— Мало?
— Почему? Много.
— А говоришь, что плохой художник. Плохим много не платят.
— Платят.
— Ну и порядки у вас! У нас бардак, но не такой.
Свернули на темную Ленинградку.
— Жена есть?
— Была.
— Дети?
— Бог миловал.
— А у меня двое… Старики живы?
— Какие они старики? Отцу полтинник. Живут себе. Далеко, в Мексике.
— Как так?
— Отец там работает.
— Понятно… О них не думаешь?
— Переживут…
Ночь. Химки. Блочные пятиэтажки. Водила уходит. В окне зажигается свет. Потом гаснет. Водила возвращается.
— Ничего. Дал адресок. В Кузьминках. Тоже мент. У него вроде есть.
Погнали в Кузьминки.
— Слышь, парень, вот о чем я подумал… А ведь ты счастливый человек.
— Это чем же?
— Свободный. Мне бы так. Я бы…
— Что? Застрелился?
— Зачем? Нет. Я бы сел в поезд, залез на вторую полку и ехал бы себе, и ехал. Долго. До самого Владивостока. Есть такой поезд. «Россия» скорый. С Ярославского уходит. Утром. Когда случается там оказаться, всегда его провожаю. Вагоны синенькие, занавески крахмальные, дымком тянет. Это потому что проводницы титаны углем топят. Даже иногда снится, как еду.
— Сел бы и поехал, кто тебе мешает?
— Легко сказать. А своих на кого оставлю? Старики старые, болеют, дети малые. Всем уход нужен, жена с работы ушла. Кто их будет кормить? Только я, больше некому… Вроде приехали. Давай бабки. С ментами легче разговаривать, когда бабки в руках. Способствует пониманию…
На этот раз его не было долго, минут сорок. У Максима неровно забилось сердце. Неужели получится? И он даже слегка обрадовался, когда водила, вернувшись, с досадой сказал:
— Не проханже. Ствол-то есть, по глазам видно. Перебздел. Вдруг подстава? Он-то меня не знает… Ну что, в Тулу? Не передумал?
— Не передумал.
— Как скажешь. В Тулу так в Тулу… Давай-ка еще в одно место заскочим, это по пути, за Люберцами.
— Там кто?
— Цыгане. Наркотой приторговывают. Винт. Не интересуешься?
— На кой черт нам цыгане?
— Не скажи. У цыган может быть все.
Начало рассветать, низины затянуло туманом. Двухэтажный цыганский дом стоял на отшибе, за высоким забором. Двор и три окна в первом этаже были освещены. На площадке перед воротами темнели «Жигули»-«копейка» с включенными габаритами, вспыхивали огоньки сигарет. Какой-то парень выскользнул из калитки, юркнул в машину. «Копейка» быстро уехала.
— Отоварились, — заметил водила. — Сейчас вмажут и в шоколаде. Даже завидно. Хоть завидовать нечему… Посиди, я недолго.
Вернулся он минут через двадцать. Не садясь в машину, сообщил:
— Есть. «Тэтэшник». Старый, но вроде бы ничего. Цыган говорит, с тридцати метров в бутылку попадает. Врет, думаю. С пятнадцати — еще можно поверить.
— Мне хватит.
— Маслята по пятерке. Ну, патроны. Сколько взять?
— Два, — подумав, сказал Максим.
— Почему два? — удивился водила. — Для верности?
— На случай, если осечка.
— Тогда нужно больше. Бери обойму.
— Щелкать до посинения? За кого ты меня принимаешь? Тут бы хоть на два раза духу хватило.
— Резонно, — согласился водила. — Значит, берем?
— Берем.
Пистолет был в промасленной тряпице, сверху в газете.
— Теперь куда? Домой?
— Нет. Отвези в какое-нибудь тихое место.
— Куда же тебя отвезти? Вот, знаю.
Свернули с шоссе в какой-то поселок, проехали мимо тихих дач в соснах, машину оставили в переулке, спустились по песчаному косогору к речке.
— Устроит?
— Вполне. Спасибо, Харон. Счастливо тебе.
Водила пожал Максиму руку, но не уходил.
— Чего ты ждешь?
— Так, ничего… Послушай, парень. Неужели ты хочешь, чтобы всего этого не было? Никогда?
Максим огляделся. По тихой воде плыл туман. Всходило солнце. На траве серебрилась роса. Максим неуверенно улыбнулся, а потом швырнул сверток с «тэтэшником» в воду. Булькнуло. Как всплеск от весла Харона.
Вернувшись в мастерскую, он натянул на подрамник новый холст.
На осеннем вернисаже в галерее Гельмана был выставлен его пейзаж «Рассвет». На аукционе он ушел за двадцать тысяч долларов. Потом были картины «Осень», «Первый снег», «Вешние воды», «Весна». «Весну» купил музей Гугенхейма. Критики писали о неожиданном превращении мрачноватого авангардиста в поразительного, тончайшего реалиста, продолжившего традиции Левитана и Саврасова на новом уровне.
Ознакомительная версия.