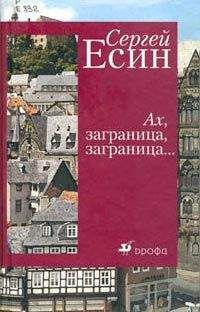Что меня так тянуло на этот спектакль? В голове, конечно, уже прокатывалась мысль – в антракте зайти за кулисы. Вот он я, видишь, видите, дорогая Серафима Григорьевна… сейчас Германовна, – что за метаморфоза с этим отчеством? – недаром вы кормили-поили ненасытного «чекалку», покупали ему за ударную работу организма костюмы и ботинки, носки и майки, расширяли его кругозор и даже раз, под видом сына хорошей приятельницы, свозили мальчонку на юг, в Сочи. Ваши усилия оказались не зряшными. Вот я каков!..
Островский был, каким его привыкли играть на периферийной сцене: актеры комиковали, говорили «народными» голосами. Серафима, естественно, выделялась, как выделялась всегда. Есть у некоторых актрис магия, способная повести за собой партнеров, увлечь и заворожить зал, где бы и с кем бы они ни играли, какой бы текст ни проговаривали. Это даже не талант – это дар. Так просто, с такими возможностями московскую сцену не бросают. Почему она это сделала?
В моем возрасте, всю жизнь протолкавшись возле кулис, уж я-то знал, как попасть за них, что сказать на входе, как сориентироваться в театральных коридорах! Закулисье Малого театра, как, впрочем, и Большого, это свой замечательный мир, не менее интересный, чем устье Амазонки. Тускло поблескивающие таблички на дверях гримуборных с именами великих актеров и актрис – Ермоловой, Щепкина, Пашенной, Царева, Гоголевой – у постороннего посетителя эти имена вызовут священный трепет. Непростые были дамы и кавалеры, многое позволяли себе и на сцене, и в жизни. Не хочу сказать ничего плохого о перечисленных святителях театра, но попадались среди их коллег и саблезубые тигры, и динозавры, и рыбки-пираньи, обгладывающие свои жертвы до косточек. Занятный и трагический мир.
Серафиме на время гастролей определили уборную тогда еще здравствующей главы шефской армейской комиссии ВТО народной артистки СССР Е.Н.Гоголевой. Над медной табличкой с ее выгравированным именем была прикреплена на двух старомодных металлических кнопках бумажка – народная же артистка СССР Валдаева Серафима, еще Григорьевна. Мелькнула мыслишка: актриса, конечно, она прекрасная, но корзина цветов, водруженная на сцену в первом же антракте, пожалуй, слишком велика, чтобы быть преподнесенной рядовыми поклонниками. Видимо, слухи о ее замужестве с «генсеком» какой-то союзной республики – совершенно ясно какой, той, откуда прибыл на гастроли театр, – вполне реальны. А какие слухи не подтверждались?
О, если бы перевести в деньги все цветы, что падают во время и после спектаклей на сцену! Являются ли эти цветы, с их подчеркнутой публичностью, только данью таланту, наградой за непередаваемые театральные переживания, или еще и фактором, демонстрирующим превосходство одного актера над другим? Одного заваливают розами, а другой, стоя на поклоне и считая чужие букеты, чувствует себя обделенным. Человеку искусства, по русской модели, надо не только знать, что ему хорошо, но и что лучше, чем соседу. Здесь все они, «деятели искусства и литературы», мазаны одним миром.
Как ревнив был, например, Пастернак к успехам других, даже не писателей, как не мог в зрелом возрасте перенести, если в центре внимания где-нибудь в компании был кто-то другой, а не он. Как демонстративно, с аффектированной перепиской, чтобы остались следы в истории и в томах писем, рвал старые дружбу. Вот был заядлый пиарщик, что там Глеб Павловский! Занятные по этому поводу воспоминания написал знаменитый советский актер Василий Ливанов, сын великого мхатовского артиста Бориса Ливанова, личного друга Пастернака. А вот под конец жизни разошлись. Эти воспоминания апологетам моего героя, пожалуй, лучше не читать. Так, размышляя об истории отношений Пастернака с Ольгой Ивинской, автор задается вопросом: действительно ли недолго полыхает любовь поэта или, как в сказке, чтобы возродить дух поэзии, трепетание собственных нервов, ему надо было попить живой кровушки?
Странные они люди, эти творцы. Наш дружочек Ломоносов тоже разудалым был рубакой.
Бурно стучать в дверь гримуборной я не стал. Как я теперь понимаю, чтобы оставаться для себя порядочным человеком, кое-какие свои мысли не следует слишком отчетливо формулировать, достаточно определенного чувствования, – тогда в наличии был определенный мстительный подтекст. Попользовались моей молодостью? Так и думали, что всю жизнь останусь голубоглазым мальчиком на содержании, а потом выйду в тираж, сопьюсь – эдакий русский гумос? Нет, дорогая, я и сам по себе что-то значил. И сейчас мы это продемонстрируем.
Перед дверью я на минуту остановился. Не следует думать, что в жизни я был расчетливым сухарем. Сердчишко-то билось, в душе что-то рокотало. Надо было привести в порядок собственные чувства, обрести уверенность, голос не должен дрожать, напор, сила, обаяние. Мне было уже под сорок. Сколько же тогда Серафиме? Мужчина больше, чем женщина, боится расстаться со своей молодостью. Одернул костюм, потрогал узел галстука. Его стоило подтянуть: галстук должен свисать чуть ниже пряжки брючного ремня. Рубашка была свежая, брюки выглажены, ботинки начищены. На всякий случай потер носок ботинка, чуть согнув ногу в колене, о брючину, потом так же – другой ботинок. Ухоженный мужчина – это мужчина с блестящими ботинками. Распрямил, чуть вытащив из рукавов, манжеты. Послюнявил палец, провел по одной брови, потом по другой. Все тип-топ. Толстой бы сказал: комильфо. Глубоко вздохнул, свел лопатки, распрямил спину, усилием мускулов подобрал живот: актеры называют это «встать в корсет». Так собирают они мышцы, стоя у кулисы, перед тем как шагнуть на сцену. И отчетливо и громко постучал в дверь.
Низкий, прокуренный, знакомый каждым придыханием, голос Серафимы. Голос был, как смола, и я сразу стал комариком. Мне почему-то сразу привиделись волшебные кусочки янтаря с впаянными в них навеки насекомыми. Бежала муха или муравей по сосновому стволу, и вытекла сверху капелька смолы, и вот они встретились…
Серафима в быту всегда говорила, как и положено примадонне, с элементом вульгарного, но пленительного хамства:
– Ну, кто там еще? Входите!
Комарик в капле смолы встал на пороге. Она подалась навстречу. Мгновенно узнала.
– Тебя-то мы уже давно ждали. – Она не подала руки, снова повернулась к зеркалу. Сразу показала мне: я свой. Голые лампы пылали. – Ну, молодец, молодец, что проведал. Сейчас мы поглядим на тебя, воспитанничек, дружок.
Я разглядывал её, потом перевел взгляд на молодого человека, сидевшего в дальнем углу на узком, почти декоративном диванчике. Чужого присутствия я не предусмотрел. Румяный черноволосый парень. Таких теперь берут в ОМОН. И одет он был как для работы среди штатских, переряженный спецназовец: черный костюм, белая рубашка, галстук, ботинки на коже. Сидел, широко расставив колени, и ел грушу. Я обратил внимание, что на левой руке у него болтался золотой браслет. Это уже не форменное, в его возрасте мне тоже был подарен браслет, правда, из меди – тогда это было и модно, и, как говорили, помогало от всех болезней. Охранник, порученец, шофер, приставленный сановным мужем, или..?
– Хорош, хорош, молод, ладен, жена тебя хорошо содержит, профессором стал, знаю, знаю. – Серафима сидела без тяжелого то ли халата, то ли капора, в котором была на сцене. Парик и грим только подчеркивали ее моложавость: под накидкой угадывалось ничуть не постаревшее тело. Я тоже следил, как мог, за ней, амплуа основных героинь она мужественно оставила лет десять назад, но своих «старух», оказывается, носит, как награду. Вот это характер, вот это дар!
– Ну, рассказывай, рассказывай, – говорила она своим тяжелым голосом и знала, что пока говорит, никто не осмелится даже словечка вставить. – Рассказывай, как учился, как защитил диссертацию. – При этом она не смотрела в мою сторону, а пристально и сосредоточенно всматривалась в отражение своего лица в зеркале, держа наготове большую театральную пуховку с пудрой. Но я знал, что в ее демонстративный обзор попадаю и я – молодой человек сорока лет в чистых ботинках и с испуганными глазами. – Детей у вас, значит, нет? У меня тоже нет, что делать, значит, такая судьба, надо примириться. Жена твоя поет хорошо, я ее слушала, когда она приезжала в Алма-Ату. Жалко, что ты не приехал, повидались бы. Я бы вас отвезла к себе на дачу, покормила мантами. Среднеазиатские пельмени, не зыбыл? Накормили бы, чекалка?– Серафима вдруг оторвалась от собственного лица и скосила глаза в зеркале на молодого человека. Он уже доел грушу и аккуратно отирал пальцы носовым платком, выглядел он не слишком довольным. Меня в этот момент резануло: чекалкой – диким – диким, голодным шакалом в свое время она называла и меня. – А ты, кстати, чего сиднем сидишь? – повернулась Серафима вместе с тяжелым стулом к амбалу. – Ну-ка, марш, принеси винца, эту встречу надо спрыснуть.
Когда мальчик встал и пошел, под ним, кажется, начали прогибаться половицы. Это ведь всё было еще до реконструкции Малого театра. На меня он даже не взглянул. Откусок от груши, когда паренек проходил мимо меня, он пульнул в урну, и вышел. Похоже, он что-то обо мне раньше слышал и теперь молодой геронтофил заревновал. Для меня появился момент хоть что-то без свидетеля молвить. Я приготовил самую естественную и обаятельную из своих улыбок.