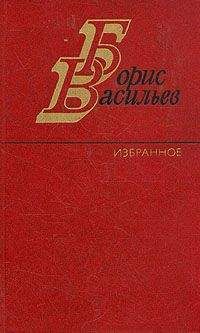Неужели все было? Неужели я и в самом деле видел ханский дворец, "фонтан слез", могилы Гиреев? Неужели я слышал гортанный рокот базара, страждущие вопли ишаков, ржание лошадей, блеяние овец, скрежет не знакомых с дегтем арб?..
А до этого — фантастическое путешествие на автомашине командующего, того, что встречал нас, угощал виноградом. Он дал нам свой автомобиль с откидным верхом и шофера, но отец ведет машину сам, а шофер сидит сзади. Тарахтит мотор, нас бросает на рытвинах, желтая пыль тянется за нами, а я верчу головой и жалею, что нельзя одновременно смотреть в обе стороны. Но чаще всего и справа, и слева — сухие, выжженные солнцем склоны, занозисто-колючие даже для скользящего взгляда. Степной Крым — место, где можно только стоять: на этих упругих, независимых колючках нельзя валяться, как тебе хочется.
У райсовета мы оставляем машину с шофером и идем к ханскому дворцу. И здесь отец бросает меня с наказом не высовываться за территорию музея. Я не успеваю вторично, теперь уже с экскурсоводом, пройти по залам, как отец возвращается:
— Идем.
На окраине в маленьком, ощутившем свою скорую кончину духане, нас ожидает человек в чесучовой тужурке и соломенной шляпе. Я не привык видеть людей в шляпах; я мальчик из военных городков, где "шляпа" — определение весьма неодобрительное, противоположное неукоснительной точности исполнения. Даже мой отец применяет это слово, роняя его коротко и весомо: "Шляпа!". А сейчас сидит со "шляпой", за деревянным столом в умирающем духане. И я сижу вместе с ними и ем грушу, которую дал мне иссохший человек в старой шелковой рубашке, подпоясанной наборным кавказским ремешком.
— Бахчисарай славится грушами, мальчик.
Он дал мне грушу и ушел, шаркая чувяками. А мне стало грустно от этих взрослых, ничего не определяющих слов, грустно и почему-то совестно, и даже груша не утешала меня. Я не ощущаю вкуса и потому слышу, о чем говорят взрослые.
— Три года назад начали чистить армию. Я заглядывал в кое-какие списки — так, по старым связям. И нашел знакомых, но не нашел тебя.
— Удивлен?
— Я бывший начальник разведки твоей кавбригады. Я хочу знать.
— Что ты хочешь знать? То, чего и я не знаю?
"Шляпа" молча прихлебывает вино. Неужели он был начальником разведки у отца? Наверно, он был плохим начальником разведки, потому что у него нет ордена.
— Я стал бояться, — вдруг говорит он. — Кажется, не я, а мы стали бояться, мы все. Почему? Мы же голой грудью перли на пулеметы и кричали гордые слова на площадях, когда нас вешали деникинцы.
— Тогда была война, а сейчас — политика. Армия не вмешивается в политику.
— Лукавишь. Занимаетесь вы политикой, вы, которые наверху. — "Шляпа" достает мятую пачку дешевых папирос, протягивает отцу.
— Ты забыл, что я не курю, Тимофей.
— Подумал, что мог закурить, — Тимофей прикуривает. — Ты узнаешь время? Я перестаю его узнавать, это не наше время. Это время говорунов: где они были, комбриг, когда мы с тобой ездили уговаривать Батьку?
Отец — комдив, и я сначала удивляюсь, что его называют комбригом, но потом соображаю, что старый друг в шляпе обращается к нему так, как привык обращаться. А тут опять появляется духанщик, приносит пахучее мясо — много мяса, пожалуй, месячную норму! — и скучно говорит пустые грустные слова:
— Бахчисарай славится шашлыками.
Мы начинаем есть мясо. Оно острое, жгучее, ароматное; мужчины запивают его густым вином, а я — водой. И ем, ем — никогда еще я так вкусно не ел.
— Видел фильм "Красные дьяволята"? Там показано, будто Махно печатал деньги. Зачем врут? Нестор Иванович никогда не печатал никаких денег. Все печатали, а он — нет. Он был честным. Думаю, самым честным, вот как я думаю.
— Поэтому ты и ушел.
— Не поэтому. Где тебя достала офицерская пуля? Под Форосом?
— За Форосом. На пароходы смотрел. Они были перегружены и гудели во все стороны… Рыдали во все стороны, а из моря торчали головы. Как пни после порубки. По ним били из пулемета, по тонущим. Я хотел остановить, но кто-то выстрелил.
— Значит, не все еще были в море.
— Пуля звания не имеет. — Отец усмехается в усы. — Ее звание — калибр, и била она из твоего допотопного кольта. Ты хотел убить меня, Тимофей.
— Если бы хотел — убил.
Мужчины не повышают голосов и не задают вопросов. Зачем зря спрашивать, когда все уже прошло? Отец жив, и его бывший начальник разведки тоже жив, и лучше молча пить вино.
— У Батьки на тебя была последняя надежда. Почему он верил тебе, а взял слово с меня? Брал слово с меня, а тебе просто верил и отдал две тысячи лучших своих сабель лично под твое начало. А ты их бросил, комбриг. Они ворвались в Крым первыми, они проложили дорогу нашей бригаде, а ты их бросил и ускакал аж за Форос смотреть, как тонут беляки.
— Беляки-тоже люди.
— А махновцы не люди? Пока ты метался по берегу, их твоим именем отвели под Ачи-Курган, приказали спешиться и ждать. И когда они спешились и отпустили подпруги, вылетели четыре тачанки, и с них в упор открыли огонь. По людям, по лошадям, я такого не видывал. Из крови шел дождь. Четырнадцать лет мне снится этот дождь. Только Марченко вырвался через Перекоп с двумя сотнями хлопцев, только Марченко. А Батько сидел в Гуляй-Поле и верил тебе.
— Таков был приказ.
— Ты знал, что хлопцев все равно кончат.
— Таков был приказ.
— И поэтому ты сбежал на побережье.
— Я искал младшего брата. А потом ты догнал меня и почему-то не убил,
— Не знаю.
Это едва ли не первая пауза в их стремительном, почти истерическом разговоре, который я скорее воспринимаю чувством, чем понимаю разумом. И, кажется, испытываю что-то похожее на стыд.
— Я искал брата. Сопляка-гимназиста, который ушел с Врангелем за романтикой. Я хотел набить ему физиономию и увезти с собой.
— Выпьем, комбриг. Мы были на похабной войне.
— Мы были на войне, где не нашлось победителей. Одни побежденные.
— Я дал слово Батьке, хотя он меня об этом не просил. Просто сказал, что… Зачем я дал тогда слово?
— Потому же, почему ты промахнулся под Форосом из верно пристрелянного кольта. Ты устал воевать, Тимофей.
— Мы были на похабной войне, комбриг. Пей за наши обещания и наши пулеметы.
Глиняные кружки глухо сталкиваются над столом
5
Следующим утром мы останавливаемся на пыльной развилке, немного отъехав от Бахчисарая. Отец вынимает из машины свернутые в одну скатку шинель и одеяло и два армейских вещмешка.
— Дальше мы пешком, — он протягивает руку шоферу. — Спасибо, товарищ.
Шофер машет рукой и разворачивается. Он едет назад, в Бахчисарай, но мы стоим, пока машина не скрывается за поворотом. Отец поднимает скатку и вещмешок.
— Спеши медленно, сопи тихо — сто лет проживешь.
Да, он так сказал, я точно помню. Он был провидцем, мой отец, и желал мне счастья. Но я с ним разминулся, со своим счастьем. Мы пошли по разным дорогам, и мое счастье, не встретив меня, где-то растерянно бродит в этом мире.
Мы идем по пыльной, завинченной в бесконечную спираль дороге все вверх и вверх, петля за петлей. Знойная тишина застыла в знойном безветрии, пахнет пылью и колючками, а петли все круче и выше, выше и круче.
— Перекур десять минут.
Отец не курит, но короткий отдых именуется перекуром. Я сбрасываю панаму, сажусь на дороге и хватаюсь за фляжку.
— Отставить.
Вновь панама на голове, а фляжка на поясе. Я не спорю, не прошу, хотя так хочется смыть застрявший в горле знойный колючий ком. Но пить в жаркий полдень- табу: воду пьют только утром и вечером. Отец внушил мне эту истину раньше, чем я научился просить воды. И вообще он — человек табу: нельзя то, нельзя то, нельзя то. Не только для других, но прежде всего — для себя.
— Не клянись — и не будешь клятвопреступником. Не обещай — и не станешь обманщиком. Не давай честных слов — и никто не обвинит тебя в бесчестии.
Он, безусловно, прав, но я так не могу. И если мне не верят, даю "честное советское", "честное пионерское" и даже "честное под салютом всех вождей". Может быть, потому мне так часто и не верят?
Давно кончился "перекур", мы вновь ввинчиваемся в раскаленную высоту. Виток за витком, виток за витком по выжженной до горечи горной дороге. По ней очень трудно ходить в сандалиях: острые камешки забиваются под голую ступню, под пальцы, приходится останавливаться, вытряхивать помеху, догонять отца.
— Береги ноги, сынок. Надо всегда беречь ноги, особенно на войне. Без головы умереть — легче легкого, а без ног помирать очень трудно. Трудно, сынок, ползти за смертью.
Знаю, отец. Я берег ноги, но не сумел сберечь, ты уж прости. Это моя личная вина, мне некого проклинать. За мои ноги и за мою жизнь.
— Терпи, сынок. Еще немного.
Терплю, отец. Еще немного. Еще немного. Я помню, как стучало в висках на последнем подъеме. Сейчас тоже стучит, хотя я лежу. Стучит, с каждым ударом выбрасывая из моего тела теплый фонтанчик крови…