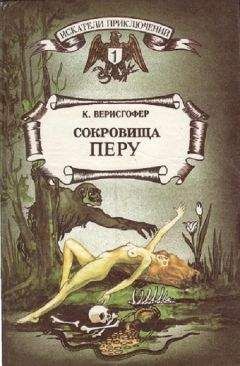— Мой папа герой, ты знаешь? — говорила она. — Он пережил лагерь, спасал людей. Сам он мне не рассказывал, я узнала от мамы. Он об этом говорить не может. Война? И папа сразу замолкает. Я его спрашиваю, а отвечает мама — шепотом об этом рассказывает. Он слишком, слишком много всего пережил.
Мне приходилось сдерживаться. Что на это ответишь? Молчание — золото. От человека, травмированного лагерем, нельзя ожидать участия в спорах. Лучше молчать, чем навлечь на себя подозрение в том, что гордишься своими страданиями.
— Иногда мне кажется невыносимым, что я, скорее всего, никогда не узнаю, смогла бы я стать таким же героем, как он.
Я только плечами пожимал, я был поражен. Страх? Стыд? Гордость? Бог знает. Ничто не казалось мне более чуждым, чем героизм. Как узнать, был ли ее отец действительно героем? Может быть, таким же, как мой? Или как тетя Юдит? Что сделало его героем? И что, я должен теперь вступать в спор из-за какой-то дурацкой чести?
Похороненное прошлое делает жизнь спокойнее, особенно когда мало о нем знаешь. Эта тема заставляла меня цепенеть, делала сонным и вызывала злость. Я понимал, что не представляю, как говорить об этом, если мой папа на самом деле не был героем.
12
Великая история отца сжигала ее. Я понимал это, но делал вид, что ничего не замечаю.
Как-то вечером мы обедали в итальянском ресторане, что всегда согревало душу, сидели друг против друга, как положено. Но от первого же глотка вина она опьянела. И я понял, что она нашла удобный случай рассказать мне свою историю — здесь и сейчас. Она собиралась выложить все разом мне, до зубов вооруженному моей собственной, вернее, заемной историей. Прошлым моей семьи.
— Жила-была девочка, — начала она. — Ее звали Лиза. Лиза Штерн. — Лиза Штерн пряталась в том же доме, где скрывались отец Сабины и его родители. В доме ван Флиитов, во Фрисландии. — Представь себе, я узнала об этом от мамы.
— Она не… Нет, она не может быть твоей матерью… — перебил я, не подумав: любопытство было сильнее меня.
Она покачала головой.
— Нет, Лиза была просто его подружкой. Его великой любовью, — шепотом добавила она.
Я усмехнулся про себя: простейшая романтика мертвого прошлого. Но почему это так злило меня?
Сабина, казалось, ничего не замечала.
— Отец дружил с Миннэ, сыном ван Флиитов, с самого своего приезда к ним, с сорок второго года. Миннэ был почти ровесником отца, учился в школе и, когда мог, приносил домой свои школьные тетрадки, чтобы и отец мог хоть как-то учиться. Мама говорила, что он был красивый мальчик, но не такой умный, как отец, так что скоро ситуация поменялась на противоположную, и отец начал помогать Миннэ.
Примерно через три месяца в их доме поселилась Лиза. От этого на чердаке не стало свободнее. Зато добавился еще один «студент». Лиза была годом старше них, но начала прятаться на год раньше отца и с радостью вернулась к учебе. Теперь они занимались втроем. Сперва все шло как вначале, отец объяснял Миннэ и Лизе уроки, но месяца через два Миннэ это надоело, и он сказал отцу, что будет сам заниматься с Лизой, которая сильно отставала от них обоих. А ему помощь больше не нужна.
Я думаю, что сложности возникли не сразу; отец был доволен — у него появилось свободное время для занятий. Они с Лизой были вместе целыми днями и сперва часто ссорились. Понятно почему: места не хватало, а отец постоянно сидел и читал. Он читал все, что находил в доме, особенно книги о Средневековье, которые собирал Миннэ.
Шло время, и отец заметил, что Миннэ прячет от него учебники. Вот когда начались проблемы. Он спросил Миннэ, где книги, но больше ничего не хотел говорить. Он понимал, что это — трюк, чтобы сохранить Лизу для себя одного.
Именно Лиза заметила, как отец страдает от Миннэ, и, хотя тоже испытывала раздражение от тесноты, решилась ему помочь. Она пыталась поговорить с Миннэ, но сразу заметила, какой Миннэ упертый, и поняла, что он боится потерять ее из-за отца.
Лиза в ту пору была без памяти влюблена в отца и продолжала с ним заниматься, пока Миннэ был в школе или со своими родителями. Она начала писать стихи, посвященные отцу. И мой отец-интроверт растаял — по крайней мере, я так думаю. Они стали друзьями, а через некоторое время даже больше, чем друзьями, и Миннэ заметил это. Я думаю, он застукал их как-то раз в кладовке, потому что там не было другого места, чтобы спрятаться от старших, а может быть, в туалете, не знаю. Важно, что, когда Миннэ их застал, они сидели обнявшись, и он так разозлился, так страдал, что решил отомстить.
Я хотел что-то спросить, но не смог прервать ее. Сабина продолжала рассказ:
— Ну вот, Лизу и отца отправили в лагерь. Их убежище было раскрыто через неделю после того, как Миннэ застукал их в кладовке. Конечно, все случилось из-за Миннэ. Может быть, он пожаловался школьному учителю, которому не стоило доверять.
Я молчал.
— Представляешь, какое бессилие и ревность надо испытывать, если тебе кажется, что только таким способом можно отомстить? — Глаза Сабины сверкали, мое молчание беспокоило ее, она казалась почти грозной. — Ему не нравилось страдать в одиночестве, он даже не пытался попросить своих родителей, чтобы те нашли им какое-то другое убежище. Нет, он должен был их предать, только так. Невозможно вообразить, какой силы ревность надо испытывать, чтобы решиться на предательство. Как он, должно быть, ждал звонка в дверь. Это настоящее убийство, просто оно должно было совершиться позже, когда их довезут до места. Говорят: в любви и на войне все дозволено? Ну вот, тут были и любовь, и война. Но разве может быть дозволено такое?
Она почти кричала, словно сердилась на меня. Может быть, так оно и было.
Я опустил голову. Мне было стыдно, я не смел судить их, как она.
Она продолжала:
— Я всегда представляю его себе со спины — моего отца, его беззащитную, мускулистую юношескую спину, обтянутую пропотевшей футболкой. В человека с такой спиной можно влюбиться, со спины легко нанести смертельный удар — там нет ни глаз, ни оружия, ни защиты. Мне хочется плакать, когда я смотрю на кого-то со спины.
Зубы Сабины блестели в лучах заходящего солнца, теплое пламя просвечивало сквозь щеку. Она ведь тоже была маленькой девочкой, подумал я, девочкой, которая слушала эти истории, примеряла их на себя и, должно быть, продумывала возможные выходы из положения. Я чувствовал вину от того, что ее история не тронула меня.
— Люди кажутся такими невинными и легко ранимыми, когда думаешь об их теле и о том, что они смертны. Когда забываешь их сердитые голоса. Что же до ненависти… Всякий, кто ненавидит, инстинктивно заставляет себя покушаться на невинное, беззащитное, неуклюжее тело, которым обладает другой, такой же живой человек, как и он.
Голос ее стал ниже, теперь она собиралась погрузиться в теоретические рассуждения. А перед моими глазами всплыло видение: ее тело.
— Почему речь идет всегда о чьем-то теле? Потому что именно телу надо заткнуть глотку? Свалить на тело все пороки? Безумие, правда? Только оттого, что им недостает силы, недостает слов. Вот что этот мальчишка сделал. Он предал их — то есть в конце концов убил.
— Но разве можно обозленного, ревнивого мальчишку семнадцати лет осудить раз и навсегда? — спросил я. Голос мой звучал хрипло. Я чувствовал себя так, словно на меня напали. — Если он еще жив, наверное, до сих пор мучается от раскаяния.
— В этом я сомневаюсь, — произнесла Сабина внушительно. Вздох, которым она сопроводила свои слова, выдавал радостную уверенность в своей правоте. Я должен был позволить ей оставаться в этом блаженном состоянии, хотя себе, конечно, не позволял подобной уверенности. В голове у меня стояла звенящая тишина.
Сабина продолжала говорить. Она выглядела почти торжествующей.
— Его соперник в конце концов выжил. То есть мой отец. Остался один, совсем один. Потерял семью и любимую. А ведь он мог наказать человека, который нес ответственность за все это, — добавила она вызывающе, словно я собирался ей возражать. — В то время на такое убийство, разумеется, посмотрели бы сквозь пальцы.
Я снова промолчал.
— Он встретил маму в пятьдесят седьмом, а я появилась на свет в шестидесятом. Теперь его снова кто-то любит.
Мне показалось, что она стала старше, пока произносила свой монолог.
— А Лиза Штерн?
— Лиза Штерн? Не знаю. Наверное, умерла.
Я не мог говорить от ужаса и злости. Я был зол из-за того, что она напилась, и из-за этого рассказа.
— Почему ты, собственно, решила, что он герой? — спросил я. Я хотел сказать: почему ты обожаешь своего отца? Я хотел сказать: разве то, что он — жертва исторической случайности, делает его чем-то особенным? Неужели ты можешь кого-то любить только за это?
Почему я всегда так скептически относился к отцам других?
Сабина заплакала. Опьянение исчезло. Пришло похмелье.