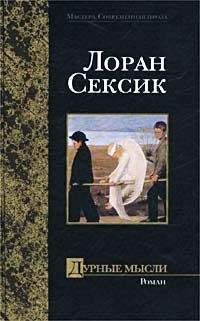Однако меня не было рядом, когда это было ей так нужно. Я ушел прежде, чем орды варваров сорвались с цепи.
Для чего же тогда я остался жив?
Сорок дней и сорок ночей длился мой поход. Я мог бы, наверно, справиться и за двадцать, но на каждом этапе то ошибался дорогой, то проезжал мимо нужной остановки, не в силах оторвать взгляда от какой-нибудь пары ножек. Всему виной мое проклятое легкомыслие и неукротимое желание увидеть то, что у женщин между ногами!
Это была долгая дорога одинокого путника, калейдоскоп сменяющих друг друга пейзажей и лиц. Я видел сочувственные взгляды молодых дам, враждебные глаза стариков, безразличие солдат. Но никто меня не обижал. Никому не было дела до судьбы такого, как я, потерявшегося мальчишки. Люди смотрели поверх моей головы, глухая тревога царила в их душах.
Поначалу я останавливался на ночлег на постоялых дворах или в привокзальных гостиничках. Потом у меня украли котомку, и с тех пор я ночевал в сараях, а то и просто под открытым небом.
К счастью, зима 1932 года не была суровой.
Когда в одно прекрасное мартовское утро доктор Фрейд обнаружил под своей дверью меня, грязного и оборванного, он не выказал ни малейшего удивления. Дядя Зигмунд ожидал меня. Посланец родителей, пересекший горы намного быстрее меня, предупредил о моем появлении. Однако письмо, которое я вручил, дядя прочел с большим вниманием. При этом он покручивал бороду и бормотал: «Любопытно, любопытно…» Я гордился тем, что подобные слова сказаны по моему адресу. И немного волновался. Его солидная внешность не оставляла места сомнениям: этот ученый человек сможет исцелить меня. И когда мой никому не нужный дар исчезнет, я вернусь в родные края с головой, защищенной от ветров и от чужих мыслей. Можно сказать, неприступной.
Герр Зигмунд настаивал, чтобы мы приступили к делу немедленно. Благодаря заступничеству тетушки Марты я получил день отсрочки. Мне приготовили горячую ванну.
Именно там, в ванной комнате венской квартиры, посреди просвещенной Европы, я впервые пережил сексуальное впечатление не в одиночку, а вдвоем. Разумеется, до финала дело не дошло, я не познал тогда ни самозабвенного проникновения в глубины, ни фелляции — ничего, чем тешился в своих фантасмагориях, — моему пенису еще долго предстояло оставаться нетронутой целиной. Но после того как я, раздевшись, скользнул в покрытую пышной пеной воду, к моей спине ласково прикоснулись женские руки — впервые в жизни не мамины! Обернувшись, я встретил взгляд голубых глаз девицы, которая представилась горничной семейства Фрейдов. Длинные, тонкие пальцы прошлись по моему животу. Я понял, что долгий путь проделан не напрасно. Если даже мой проклятый дар не исчезнет, то уж невинности, по крайней мере, я лишусь. Рука горничной слегка коснулась моих бедер. Отреагировал я быстро. Мало того, что со мной приключилась эрекция, какой прежде никогда не бывало, так я еще и подумал, что делается это по распоряжению доктора Фрейда. Известно было, что на сеансах его терапии полагается лежать на кушетке. Возможно, требовался еще предварительный этап — в ванной? В моем воображении возник образ дядюшки Зигмунда, делающего научные заметки в процессе самовозбуждения, дабы сочетать приятное с полезным.
Очарование минуты спугнул стук открывшейся двери. В ванную заглянула тетушка Марта. Личико Тани залилось багрянцем, рука вылетела из воды. Как только дверь захлопнулась, моя блондиночка бежала, забыв смыть мыло с моей спины. Как сказала бы мама, вместе с водой она выплеснула и младенца.
Мое первое свидание с доктором Фрейдом в его кабинете было назначено на восемнадцать ноль-ноль. Около пяти я уже прыгал через ступеньку вниз по лестнице, уверенный, что за малейшую минуту опоздания меня отругают. В гостиной обнял тетю Марту и застыл у входа в святая святых, не осмеливаясь постучать.
— Войдите! — велел глуховатый голос из-за двери.
Может, Старик обладал даром ясновидения?
Я очутился в помещении не слишком тесном и не слишком большом. Там было не так уж уютно, чтобы хотелось побыть подольше, но и желания бежать не возникало.
Сидя в большом кресле, Зигмунд молча разглядывал меня. Я подошел ближе, изобразив на лице радость. Он холодно пожал мне руку, потом пальцем указал на большую кушетку, стоящую у стены. Возможно, таким образом дядя хотел привлечь мое внимание ко всем предметам обстановки? Я заговорщически улыбнулся ему и подхватил игру, ткнув пальцем в сторону вазы на комоде и египетской статуэтки на книжном шкафу. Доктор грозно нахмурился:
— Ложитесь!
Я подчинился, не теряя бдительности. Мне уже приходилось слышать рассказы о стариках, принуждавших юношей доставлять им удовольствие, даже если тем этого не хотелось.
Старик приступил к объяснению правил:
— Вы должны следить за теми образами, которые возникнут в ваших мыслях, и ни одного не отбрасывать. Представьте себе, что вы стоите в купе поезда у окна и описываете пейзажи кому-то, кто сидит сзади. И главное — помните, что вы обещали (хоть я, кажется, ничего не обещал?) быть совершенно откровенным. Не упускайте никаких деталей, даже если по каким-либо причинам вам будет нежелательно говорить о них.
Проблема заключалась в том, что вне кризисных периодов я не испытывал ровным счетом никаких страданий. Но разочаровывать Старика не хотелось, и я, устремив глаза на потолок, попытался сосредоточиться. Поскольку Зигмунд упомянул о поезде, я начал рассказывать о своем путешествии. Проговорив десять минут без остановки, я спохватился, что веду себя крайне невежливо. Мама всегда наставляла меня: «Не забывай, что другие тоже хотят высказаться!» Поэтому я приподнялся и спросил:
— А у вас как дела?
— Если бы вы знали, что мне приходится выносить, — не задумываясь, ответил он, но сразу же спохватился: — Натан, мы здесь лишь для того, чтобы слушать вас!
Надо полагать, доктор и впрямь был значительной персоной, если говорил о себе «мы»…
— Ну а теперь расскажите о своем детстве!
Рассказывать мне было, в общем-то, нечего. Я был обыкновенный мальчик, такой, как все, с родителями, ни в чем не согласными между собой. Он сходились только в одном: их отпрыск должен достичь в жизни невиданного успеха. На следующем этапе рассуждений они снова вступали в спор. Мама полагала, что я должен изобрести вакцину против туберкулеза. Папа считал, что я рожден для того, чтобы вернуть наш народ на историческую родину. Я всячески пытался увильнуть от этой задачи, но мама шла на уступки: «Ну ладно, сперва можешь избавить нас от доли изгнанников, но потом уж обещай мне обязательно заняться вакциной против туберкулеза!» Мой старший брат, ее первенец, умер в санатории еще до моего рождения.
Старик начинал проявлять признаки нетерпения. Он требовал подробного рассказа о пережитом, и притом, по возможности, со скабрезными подробностями. Ну что ж, я рассказал о том ужасном дне, когда, вернувшись домой, услышал стоны, доносящиеся из спальни. Когда дверь скрипнула, все застыло. Я тоже окаменел. Значит, Мордехай говорил правду! В мое отсутствие отец осмелился притираться к маме на той самой кровати, где по вечерам я часто укладывался рядом с ней! Мерзко и отвратительно! Я сделал шаг назад и услышал из-за стены голос мамы:
— Натан, в кухне на столике есть свежие яйца. Если хочешь кушать, можешь одно выпить!
С тех пор даже от запаха омлета меня тошнило.
— Омлет? — пробормотал Старик. — Любопытно…
Мне как-то не улыбалось выставлять свою личную жизнь напоказ перед врачом, который, похоже, относился ко мне как к ярмарочному феномену. Я же вот не спрашивал его, пристает ли он к Тане в чулане… В свои преклонные лета этот Зигмунд явно был парнем хоть куда. Вопросы пола — больше его ничего не интересовало. Я укрепился на позициях неодобрительного молчания и принялся разглядывать кабинет. Это был настоящий хаос бронзовых статуй, африканских масок и иссохших головок мумий на книжном шкафу. Сам Старик, с его мрачным, бледным лицом, казалось, был одним из предметов меблировки.
Еще там было книг видимо-невидимо — уж точно больше, чем в доме Гломика Всезнайки.
— А я вот не люблю читать! — вдруг заявил я.
— Ты не любишь читать? — эхом откликнулся он.
В таком духе разговор мог тянуться вечно!
— Не получается. Мама говорит, что мне не хватает усидчивости…
— Усидчивости?
Ну до чего же занудный тип!
— Да. Только начну читать что-то из Писания, как мне в мысли лезет шепот других учеников или птичий гомон в школьном саду…
— «Лезет», ты говоришь? Вроде тех яиц?
— Примерно. Очень скоро я перестаю различать, где живые люди, а где те, из Писания. Мы все оказываемся в одном мире. Гломик Всезнайка бродит по Синайской пустыне в поисках манны небесной, а я слушаю, как пророк Илия грозит ужасными катастрофами в ближайшем будущем. Страшно неприятно.