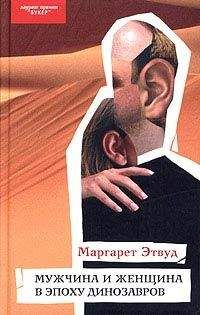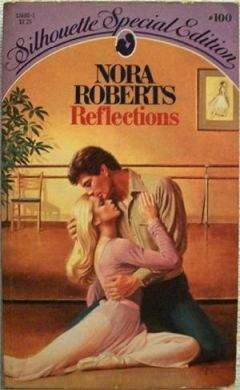— Я ведь не зову тебя «Леся-латышка», — обиделся он.
— Литовка, — поправила она. (У Уильяма проблемы с названиями прибалтийских республик.) — Литвак. Можешь звать, пожалуйста, я не возражаю, — неискренне сказала она. — А можно я буду тебя звать Уильям Канадец?
Мальчик Билли, милый Билли.
Где ты был целый день [1].
Вскоре после этого у них вышел спор о второй мировой войне. Отец Уильяма в войну служил капитаном в военно-морском флоте, так что Уильям, конечно, крупнейший специалист по этой теме. Уильям считает, что британская армия (и, естественно, канадская тоже) вступила в войну по соображениям высшей морали — чтобы спасти евреев, не дать превратить их в облачко газа и горсть жилетных пуговиц. Леся не согласилась. Она заявила, что евреев спасали лишь постольку-поскольку. На самом деле спор шел о том, кто быстрее захапает территорию. Гитлер мог бы поджаривать евреев сколько душе угодно, если бы не захватил Польшу и не вторгся в Голландию. Уильям сказал, что Леся неблагодарная, раз так думает. Леся в ответ предъявила свою покойную тетю Рахиль, которую никто не спас, и ее золотые зубы безымянными осели на чей-то счет в швейцарском банке. Как ответить этой неотмщенной тени? Уильям, которому нечем было крыть, отступил в ванную — бриться. Леся почувствовала, что выиграла нечестно.
(А вот другая ее бабка, по матери, рассказывала ей: сначала мы были рады Гитлеру. Мы думали, он лучше, чем русские. А вот видишь, как вышло. В этом была некая ирония, потому что ее муж там, на Украине, был почти коммунистом. Поэтому им пришлось уехать: из-за политики. Он и в церковь не ходил, сказал, что ноги его там не будет. Плевал я на церковь, говорил он. Он уже давно умер, но Лесина бабушка все об этом страдала.)
Недавно Леся поняла, что больше не ждет, когда же он сделает ей предложение. Раньше она думала, что это само собой разумеется. Сначала люди живут вместе, для пробы. Потом женятся. Так поступали ее университетские друзья. Но теперь она понимает, что Уильям считает ее слишком экзотичной. Конечно, он ее любит — по-своему. Он кусает ее в шею, когда они занимаются любовью. Леся думает, что с женщиной своей породы — однажды она поймала его на такой формулировке — он ничего такого себе не позволил бы. Они бы занимались любовью, как два лосося, удаленно, Уильям оплодотворил бы прохладные серебристые икринки с безопасного расстояния. Он называл бы своих детей «потомство». Его потомство, с чистой кровью.
Вот в этом и загвоздка: Уильям не хочет ребенка от нее. С ней. Хотя она уже намекала ему; да она могла бы и залететь без спросу. Дорогой, знаешь что. Я в положении. От тебя. Ну что ж, скажет он, выйди из этого положения.
Ох, это клевета на бедного Уильяма. Он восхищается ее умом. Он любит, чтобы она пользовалась научным жаргоном при его друзьях. Когда она произносит «плейстоцен», у него встает. Он говорит ей, что у нее красивые волосы. Он тонет в ее смородиновых глазах. Он гордится ею как трофеем и как свидетельством своей непредвзятости. Но что скажет его семья, проживающая в городе Лондоне, провинция Онтарио?
Леся представляет себе его семейство многочисленным, розовым и блондинистым. Члены этой семьи по большей части проводят время за игрой в гольф, с перерывом на пару раундов тенниса с полной выкладкой. Когда они не играют в гольф и теннис, они толпятся на террасах — Леся представляет себе, что они это делают даже зимой, — и пьют коктейли. Они вежливы с чужими, но за глаза могут сказать, например: «Этот парень не знает даже, кто его дед». Леся отлично знает, кто были оба ее деда. Вот с прадедами будут проблемы.
Она знает, что на самом деле семья Уильяма совсем не такая. Но Леся, как и ее родители, считает, что любой человек с британской фамилией уже на пару ступенек выше по социальной лестнице, если только живет не под мостом. Она знает, что не надо так думать. Вряд ли родители Уильяма намного богаче ее собственных. Вот только замашки у них аристократические.
Когда-то она боялась встречи с ними, думала, что они ее не одобрят. Теперь ей даже хочется их увидеть. Она выкрасит зубы золотом, намотает на голову бахромчатые шали и явится, бренча тамбурином и топоча. Чтобы оправдать их жуткие предчувствия. Бабушка будет подбадривать ее, хлопая крохотными, как лапки крота, ладошками, скрипуче смеясь. Голос крови. «Мы беседовали с Богом, когда они балакали со свиньями». Будто народ, как сыр, с годами становится лучше.
— В неодевонском периоде не было навозных жуков, — говорит Леся.
Уильям осекается.
— Я не понял, о чем ты, — говорит он.
— Я просто подумала о параллельной эволюции: навозные жуки и навоз, — говорит она. — Например, что появилось раньше — человек или венерические болезни? Я предполагаю, что носители должны были возникнуть раньше паразитов, но так ли это на самом деле? Может быть, человека изобрели вирусы, чтобы им было где жить.
Уильям решает, что она шутит. Он смеется.
— Шутишь, — говорит он. Он считает, что у нее очень своеобразное чувство юмора.
Альбертозавр, или, как предпочитает называть его Леся, горгозавр проламывает северную стену Колоннады и стоит в растерянности, обоняя незнакомый запах человеческой плоти, балансируя на мощных задних ногах, прижав к груди крохотные передние лапки с острыми, как бритвы, когтями. Через минуту Уильям Англосакс и Леся Литвак превратятся в два комка жеваных жил. Горгозавр алчет, алчет. Ходячий желудок, он проглотил бы весь мир, если б мог. Леся, которая привела его сюда, смотрит на него с дружелюбной объективностью.
Вот тебе задачка, Уильям, думает она. Реши-ка ее.
Суббота, 30 октября 1976 года
Нат
Он не надел плаща. Водяная пыль оседает на грубошерстном свитере, на бороде, собирается на лбу, сбегает струйками вниз. Разве можно не пустить его в дом — мокрого, дрожащего и без плаща?
Он оставил велосипед на дорожке к дому — приковал цепью к кусту сирени и щелкнул замком. Как обычно; но сегодня — не как обычно. Они не виделись месяц. Четыре недели. Она плакала, он беспомощно пожимал плечами, и вообще все было как в дешевом телесериале, вплоть до фразы «Так будет лучше». Она за это время звонила ему пару раз, хотела, чтобы он пришел, но он уклонялся. Он не любит повторений, не любит предсказуемости. На этот раз, однако, он ей позвонил.
У нее квартира "А", 32А, в большом старом доме к востоку от улицы Шербурн. Главная квартира — с фасада, а в квартиру "А" входят через боковую дверь. Когда он позвонил, она открыла сразу же. Ждала его. Хотя не помыла голову к его приходу и не надела бархатный халат; она в брюках и слегка потрепанном светло-зеленом свитере. В руке — полупустой стакан. В нем плавает лимонная корка и кубик льда. Укрепление.
— Ну что ж, — говорит она, — с годовщиной тебя.
— С какой? — спрашивает он.
— Суббота всегда была наш день. — Она почти пьяна, она зла. Трудно ее винить. Нат вообще не умеет никого ни в чем винить. По большей части он понимает, почему она сердится. Просто он ничего не может поделать.
— Не то чтобы она это особо соблюдала, — продолжает Марта. — То одно, то другое. Прошу прощения, что помешала вам, но у одной из девочек только что отвалилась голова. — Марта смеется.
Нату хочется схватить ее за плечи, хорошенько встряхнуть, шмякнуть об стену. Конечно, нельзя. Он стоит, капая на пол прихожей, и тупо смотрит на Марту. Его тело будто обвисает на позвоночнике, плоть обмякает, как свежая тянучка на палочке. Густая карамель. Он всегда предостерегает дочерей: «Не бегайте с палочками во рту», уже видя, как они падают, как палочка протыкает небо. Бежит, опускается на колени, берет на руки, крик, его собственный голос. Господи боже.
— Может, не будем впутывать сюда детей? — говорит он.
— А что такое? — говорит Марта. — Они и так уже впутаны, разве нет?
Она поворачивается и идет вон из прихожей, в гостиную.
Мне лучше уйти, думает Нат. Но идет за ней, сперва сбросив мокрые ботинки, беззвучно ступая по старому ковру. По старой колее.
Горит только одна лампа. Марта продумала освещение. Она сидит поодаль от лампы, в тени, на диване. Обитый плюшем диван, где Нат впервые поцеловал ее, распустил и гладил ее волосы, струившиеся по широким плечам. Большие, ловкие ладони. Он думал, что будет в безопасности в этих руках, меж этих коленей.
Она вечно прикрывалась детьми, — говорит Марта. На ней вязанные крючком шерстяные тапочки. Элизабет никогда бы не надела вязанные крючком шерстяные тапочки.
— Нельзя сказать, что она тебя не любит, — говорит Нат. Они уже не первый раз это обсуждают.
— Конечно, — говорит Марта. — Какой смысл не любить горничную? Я делала за нее грязную работу. По совести, она бы должна была мне платить.
Нат уже не впервые понимает, что слишком многое рассказывал этой женщине. Она передергивает, использует его откровения против него.