— Что ты, я никогда этого не делаю. Боюсь.
— Ну хорошо, расскажи о правой руке, о том, что уже было — расскажи о себе.
— Ну вот, видишь? — она раскрыла правую ладонь. — Совершенно четкая линия судьбы. Видишь эту линию? Это значит, что я цельная натура, что на меня можно положиться, что я больше жена, чем любовница. У меня есть артистическая струнка, которая, однако, ни денег, ни славы не принесет. А это вот… нет, не скажу.
— А все-таки?
— Нет, нет, я это давно знаю. А тебе, может быть, будет неприятно.
— Ну, не интригуй меня. Скажи.
— Нет, нет.
— Как хочешь.
Как обычно, когда он перестал настаивать, она сама уступила.
— Ну хорошо, скажу, только ты никому не говори, ладно? Об этом будем знать только мы с тобой. Видишь вот эту линию, которая так резко обрывается?
— Да…
— Это смерть. Ранняя смерть. Хотя бы для того, чтобы доказать, какая я правдивая гадалка, я должна умереть.
— Перестань чушь молоть.
— А знаешь, Зауричек, иногда я думаю: вдруг я умру, причем это будет смерть не от болезни, а так — утону, разобьюсь в самолете, в машине, ну, на улице упадет кирпич на голову, мало ли от чего можно умереть. Так вот, когда я думаю об этом, я так жалею себя, что прямо плакать хочется. И не из-за смерти, а из-за того, что эта смерть никакого значения ни для кого иметь не будет. Кто станет печалиться обо мне? Ну, муж, допустим, недельку от силы. Потом утешится. Ну, соседка Медина — примерно столько же. А может, еще и ты, чуть подольше… А может, и меньше, кто знает?
— Ты перестанешь глупости говорить? Что это на тебя нашло? То мы расстанемся, то о смерти. Иди ко мне…
Рядом с грубыми летними матрасами были мешки с цементом, ящики с гвоздями, какие-то кастрюли и плетеные корзины и большие бутыли с уксусом, и Тахмина сказала, что она нарочно затащила его, Заура, сюда, на эту дачу: не затем, вернее, не только затем, — чтобы полюбоваться видом с балкона, а чтобы еще раз… в последний раз.
Но Заур уже знал, что никакой это не последний раз и что она уже не может жить без него, не может не видеть его, и единственное, что он должен сделать, это согласиться с ней — да, это наша последняя встреча — и потом ждать; ни в коем случае не проявляя инициативы, выжидать, и тогда она сама снова придет к нему.
— Но есть еще одна причина, почему я затащила тебя на эту дачу, — сказала она уже в машине, — о ней ты никогда не узнаешь.
Она оказалась права, он так и не узнал об этой, еще одной — третьей причине, если она в самом деле существовала. Но его раздражала ее манера постоянно интриговать его, и со злости он не стал допытываться об этой третьей причине.
У дома она быстро поцеловала его и бросила, выходя из машины:
— Прощай.
«До свидания. Пока. Прощай». Заур знал, что слова ничего не стоят, и все же дома, когда он стоял под душем и смывал с тела песчинки, ему показалось, что мощная струя смывает с него все поцелуи, ласки, прикосновения Тахмины, ее слова, ее запах — навсегда. И он никогда больше не увидит, как она отбрасывает волосы со лба. Никогда. «Ждать. Выжидать. И только», — твердо сказал он себе.
Заур любил своих родителей, причем с годами все больше и больше. Вернее, в зрелом возрасте он любил их так же, как в детстве, — естественной и бескорыстной любовью, и не так, как в определенный период отрочества и ранней молодости. В этот же период, длившийся примерно пять-шесть лет, — он охватывал последние классы средней школы и почти все годы студенчества, — Заур, конечно, тоже любил отца и мать, но это была какая-то иная любовь — с некоторой долей неприязни к их образу мыслей и образу жизни и с очень большой долей потребительского к родителям отношения. Это был период увлечения спортом, джазом, танцами и вечеринками, девочками и шмотками, модными фильмами и рассуждениями о сексуальной свободе. Родители с их кондовыми моральными принципами и консервативными вкусами, с их приверженностью к обычаям и традициям, казавшимися ему нелепыми, представлялись Зауру воплощением всего косного, «мусульманского», как определял он их пристрастие к совершенно разным вещам — индийским фильмам и восточной музыке (отец все свободное от работы время мог крутить транзистор, прислонив его к самому уху, и часами слушать заунывные арабские и иранские мелодии, порой закрывая глаза и причмокивая от удовольствия), к хрусталю, заполнившему коричневый массивный сервант в их гостиной, к скучнейшим приемам с длинными бестолковыми тостами и лихорадочной озабоченностью — как бы кого не забыть и не нарушить ранжир: в каком порядке за кого пить, кого где посадить, что превращало все эти так называемые торжества в мучительную повинность, усугубленную вымученным юмором штатного тамады. Были еще и бесконечные родственники и необходимость поддерживать с ними разговоры на неинтересные темы, была и старая массивная мебель (эта мебель через несколько лет снова вошла в моду, но в те годы казалась символом мещанского благополучия), были и бесконечные пересуды о чьей-то карьере и о сомнительных путях ее достижения, и долгие беседы о том, кто чей земляк и у кого где рука, и перемывание косточек знаменитостей, а то и просто соседей, знакомых, и был прямо-таки религиозный культ научных степеней и так далее и тому подобное. Все это казалось Зауру другим миром — глубоко ему чуждым и ненавистным, и были минуты, когда он еле терпел родителей, не только причастных к этому чуждому для него миру, но и олицетворяющих собой его основные принципы и понятия. Его юношеское неприятие этого мира и порождало беззаботно-потребительское отношение к родителям. «Ничего с вами не станется, если раскошелитесь на новый костюм (пальто, туфли, поездку и прочее) для единственного сына», — в таком тоне предъявлял он свои требования родителям, вернее, маме, потому что с отцом у него были более сдержанные отношения, хотя в конечном счете расплачиваться приходилось отцу. И легкость, с которой удовлетворялись все его большие или малые прихоти, не смягчала его досадливо-высокомерного отношения к родителям, а, наоборот, усугубляла это отношение. Даже ничем не ограниченная щедрость родителей к единственному чаду вызывала в нем скорее ироническую усмешку, чем благодарность. «Что ж, я не пьяница, не картежник, не бездельник и не лентяй», — думал он о себе, искренне полагая, что отсутствие этих пороков уже есть огромное достоинство и чуть ли не милость родителям. И так же искренне он не считал себя избалованным профессорским сынком, а лишь мимоходом признавал, что просто ему повезло чуть больше, чем многим его друзьям и сверстникам. Особенно когда отец, правда после нескольких настойчивых просьб, обращенных лично к нему (и, конечно, не без ходатайства мамы), купил Зауру, только что окончившему институт, «Москвич»- мечту всей его юношеской поры.
В те годы Заур встречался с похожей на русалку девушкой Таней, чемпионкой республики по парусному спорту. Мать, которая непостижимым образом всегда все знала о его увлечениях, относилась к этой связи хотя и не вполне одобрительно, но довольно-таки терпимо. Причем она всегда почему-то говорила о Тане не в единственном числе: «Опять твои Таньки-Маньки звонили».
«Таньки-Маньки»- это и была Таня, которая вдруг неожиданно уехала во Львов и навсегда ушла из жизни Заура. Он вспоминал о ней редко, но всегда с легким, весенним чувством, и как только всплывал в памяти ее образ, синие глаза и длинные распущенные волосы, тотчас в сознании возникали большие белые паруса, несущиеся наперегонки по синим волнам.
Все, чего достиг отец Заура, профессор геологии Меджид Зейналлы, он достиг сам, в трудной и долгой жизненной борьбе. Приехав в тридцатые годы из глухой деревушки, с тремя рублями в кармане единственных брюк, Меджид побывал и разнорабочим на нефтяных промыслах, и грузчиком в порту, даже помощником повара в столовой, одновременно занимаясь на вечернем рабфаке. Не обладая особыми дарованиями, с помощью одной лишь настырности и фантастического упорства, он через семь лет окончил университет и уехал в Ленинград в аспирантуру. Вернувшись в тридцать шестом году в Баку кандидатом наук, он женился на машинистке института, в котором стал работать, коренной бакинке, переселился к жене, в собственный, доставшийся еще от деда дом в нагорной части города. Дом был двухэтажный, верхний этаж сдавался жильцам, а в двух комнатах на первом этаже Меджид с женой Зивяр-ханум, тещей и свояченицами прожил почти полгода, пока через год не получил одну из освободившихся квартир в центре, в которой они и жили до сегодняшнего дня.
Потом была война, и Меджид Зейналлы, лейтенант артиллерии, провел почти год на фронте, после двух ранений был доставлен в Баку (незадолго до того родился Заур), а после выздоровления с группой специалистов-геологов командирован в Иран, где и прослужил до окончания войны. Из Ирана он привез лакированные туфли и шоколад (что запомнилось Зауру больше, чем все остальное из привезенного отцом). После войны Меджид Зейналлы защитил докторскую диссертацию, стал заведующим кафедрой в крупном вузе и получил орден.
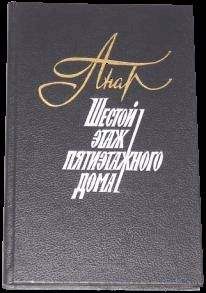


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

