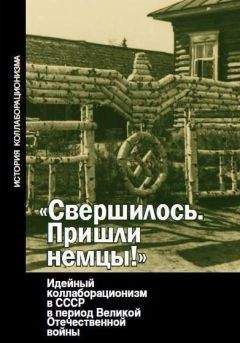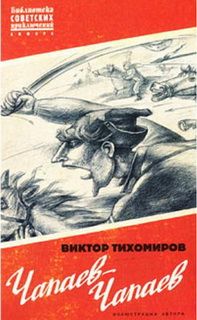Ознакомительная версия.
– С чем пирожки-то? – нежно спросил Барболин. – Говорят, тут люди пропадают. Как бы не оскоромиться.
– А я ел, – просто сказал Жербунов. – Как говядина.
Больше не в силах этого выносить, я вынул банку, и Барболин принялся развешивать порошок по чашкам.
Между тем господин во фраке кончил играть, изящно и быстро надел носок и туфлю, встал, поклонился, подхватил табурет и под редкие хлопки ушел со сцены. Из-за столика возле эстрады поднялся благообразный мужчина с седой бородкой, вокруг горла которого, словно чтобы скрыть след от укуса, был обмотан серый шарф. Я с удивлением узнал в нем Валерия Брюсова, постаревшего и высохшего. Он взошел на эстраду и обратился к залу:
– Товарищи! Хоть мы и живем в визуальную эпоху, когда набранный на бумаге текст вытесняется зрительным рядом, или… хмм… – он закатил глаза, сделал паузу, и стало ясно, что сейчас он произнесет один из своих идиотских каламбуров, – или, я бы даже сказал, зрительным залом… хмм… традиция не сдается и ищет для себя новые формы. То, что вы сегодня увидите, я определил бы как один из ярких примеров искусства эгопупистического постреализма. Сейчас перед вами будет разыграна написанная одним… хмм… одним пострелом… хмм… маленькая трагедия. Именно так ее автор, камерный поэт Иоанн Павлухин, определил жанр своего произведения. Итак – маленькая трагедия «Раскольников и Мармеладов». Прошу.
– Прошу, – эхом повторил Жербунов, и мы выпили.
Брюсов сошел с эстрады и вернулся за свой столик. Двое людей в военной форме вынесли из-за кулис на эстраду громоздкую позолоченную лиру на подставке и табурет. Затем они принесли столик, поставили на него пузатую ликерную бутылку и две рюмки, прикрепили к кулисам куски картона со словами «Раскольниковъ» и «Мармеладовь» (я сразу решил, что мягкий знак на конце слова – не ошибка, а какой-то символ), а в центре повесили табличку с непонятным словом «йхвй», вписанным в синий пятиугольник. Разместив эти предметы, они исчезли. Из-за кулис вышла женщина в длинном хитоне, села за лиру и принялась неспешно перебирать струны. Так прошло несколько минут.
Затем на сцене появились четверо человек в длинных черных плащах. Каждый из них встал на одно колено и поднятой черной полой заслонил лицо от зала. Кто-то зааплодировал. На противоположных концах эстрады появились две фигуры на высоких котурнах, в длинных белых хламидах и греческих масках. Они стали медленно сходиться и остановились, немного не дойдя друг до друга. У одного из них в увитой розами петле под мышкой висел топор, и я понял, что это Раскольников. Собственно, понять можно было и без топора, потому что на кулисах напротив него висела табличка с фамилией. Актер, остановившийся у таблички «Мармеладовь», медленно поднял руку и нараспев заговорил:
– Я – Мармеладов. Сказать по секрету,
мне уже некуда больше идти.
Долго ходил я по белому свету,
но не увидел огней впереди.
Я заключаю по вашему взгляду,
что вам не чужд угнетенный народ.
Может быть, выпьем? Налить вам?
– Не надо.
Актер с топором отвечал так же распевно, но басом; заговорив, он поднял руку и вытянул ее в сторону Мармеладова, который, быстро налив себе рюмку и опрокинув ее в отверстие маски, продолжил:
– Как вам угодно. За вас. Ну так вот,
лик ваш исполнен таинственной славы,
рот ваш красивый с улыбкой молчит,
бледен ваш лоб и ладони кровавы.
А у меня не осталось причин,
чтоб за лица неподвижною кожей
гордою силой цвела пустота
и выходило на Бога похоже.
Вы понимаете?
– Думаю, да…
Меня пихнул локтем Жербунов.
– Чего скажешь? – тихо спросил он.
– Рано пока, – ответил я шепотом. – Дальше смотрим.
Жербунов уважительно кивнул. Мармеладов на сцене говорил:
– Вот. А без этого – знаете сами.
Каждое утро – как кровь на снегу.
Как топором по затылку. Представить
можете это, мой мальчик?
– Могу.
– В душу смотреть не имею желанья.
Там темнота, как внутри сапога.
Словно бы в узком холодном чулане –
мертвые женщины. Страшно?
– Ага. Что вы хотите? В чем цель разговора?
– Прямо так сразу?
– Валяйте скорей.
– Может, сначала по рюмке ликера?
– Вы надоедливы, как брадобрей.
Я ухожу.
– Милый мальчик, не злитесь.
– Мне надоел наш слепой разговор.
Может быть, вы наконец объяснитесь?
Что вы хотите?
– Продайте топор…
Я тем временем оглядывал зал. За круглыми столиками сидело по трое-четверо человек; публика была самая разношерстая, но больше всего было, как это всегда случается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых блядей. За одним столиком с Брюсовым сидел заметно потолстевший с тех пор, как я его последний раз видел, Алексей Толстой с большим бантом вместо галстука. Казалось, наросший на нем жир был выкачан из скелетоподобного Брюсова. Вместе они выглядели жутко.
Я перевел глаза и заметил за одним из столиков странного человека в перехваченной ремнями черной гимнастерке, с закрученными вверх усами. Он был за столиком один, и вместо чайника перед ним стояла бутылка шампанского. Я решил, что это какой-то крупный большевистский начальник; не знаю, что показалось мне необычным в его волевом спокойном лице, но я несколько секунд не мог оторвать от него глаз. Он поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к эстраде, где продолжался бессмысленный диалог:
– …Что? Да зачем?
– Это мне для работы.
Символ одной из сторон бытия.
Вы, если надо, другой украдете.
Краденным правильней, думаю я?
– Так… А я думаю – что за намеки?
Вы ведь там были? За ширмою? Да?
– Знаете, вы, Родион, неглубоки,
хоть с топором. Впрочем, юность всегда
видит и суть и причину в конечном,
хочет простого – смеяться, любить,
нежно играет с петлею подплечной.
Сколько хотите?
– Позвольте спросить,
вам для чего?
– Я твержу с первой фразы –
сила, надежда, Грааль, эгрегор,
вечность, сияние, лунные фазы,
лезвие, юность… Отдайте топор.
– Мне непонятно. Но впрочем, извольте.
– Вот он… Сверкает, как пламя меж скал…
Сколько вам?
– Сколько хотите.
– Довольно?
– Десять… Пятнадцать… Ну вот, обокрал.
Впрочем, я чувствую, дело не в этих
деньгах. Меняется что-то… Уже
рушится как бы… Настигло… И ветер
холодно дует в разъятой душе.
Кто вы? Мой Бог, да вы в маске стоите!
Ваши глаза как – две желтых звезды!
Как это подло! Снимите!
Мармеладов выдержал долгую и страшную паузу.
Мармеладов одним движением сорвал маску, и одновременно с его тела слетел привязанный к маске хитон, обнажив одетую в кружевные панталоны и бюстгальтер женщину в серебристом парике с мышиной косичкой.
Боже… Старуха… А руки пусты…
Раскольников произнес эти слова еле слышно и рухнул на пол с высоты своих котурнов.
То, что началось дальше, заставило меня побледнеть. На сцену выскочили два скрипача и бешено заиграли какой-то цыганский мотив (опять Блок, подумал я), а женщина-Мармеладов набросила на упавшего Раскольникова свой хитон, прыгнула ему на грудь и принялась душить его, возбужденно виляя кружевным задом.
На секунду мне показалось, что происходящее – следствие какого-то чудовищного заговора, и все присутствующие глядят в мою сторону. Я затравленно огляделся, снова встретился взглядом с усатым человеком в черной гимнастерке и вдруг каким-то образом понял, что он все знает про гибель фон Эрнена – да чего там, знает про меня гораздо более серьезные вещи.
В этот миг я был близок к тому, чтобы вскочить со стула и кинуться прочь, и только чудовищное усилие воли удержало меня на месте. Публика вяло хлопала; некоторые смеялись и показывали пальцами на сцену, но большинство было поглощено своими разговорами и водкой.
Задушив Раскольникова, женщина в парике подскочила к краю эстрады и под сумасшедшие звуки двух скрипок принялась выплясывать, задирая голые ноги к потолку и размахивая топором. Четверо в черном, неподвижно простоявшие все действие, подхватили накрытого хитоном Раскольникова и понесли его за кулисы. У меня мелькнула догадка, что это цитата из «Гамлета», где в самом конце упоминаются четыре капитана, которым полагалось бы унести мертвого принца; странно, но эта мысль мгновенно привела меня в чувство. Я понял, что происходящее – не заговор против меня (подобного никто просто не успел бы подстроить), а обыкновенный мистический вызов. Сразу же решив принять его, я повернулся к ушедшим в себя матросам.
Ознакомительная версия.