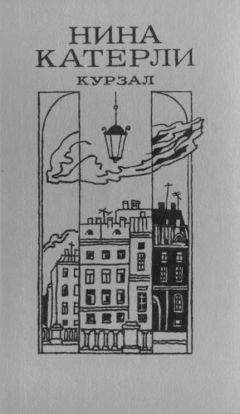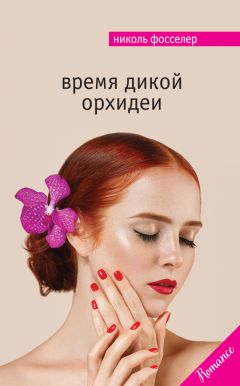Иногда тетя Калерия произносила что-нибудь исключительное, вроде: «Девушка должна быть гордой, нельзя, чтобы ОН догадался, что нужен вам больше, чем вы — ему…» Запукина ей послушно кивала, но, по-моему, она вообще ничего не слушала, не видела и не понимала, в белесых, круглых ее глазах навсегда застыло одно-единственное выражение — тоскливого ожидания. Впрочем, на один звук она реагировала безотказно: на телефонный звонок. Стоило ему раздаться, как она мгновенно срывалась с места и кидалась к дверям. Из коридора слышался топот и истошное «Алё! Алё!!» Потом она возвращалась понурая и говорила, что к телефону позвали, конечно же, Анну Ефимовну и теперь она будет три часа разводить свои глупости. Анна Ефимовна действительно разговаривала подолгу, но это были вовсе не глупости, а медицинские консультации, которые она давала своей дочери, или взрослой внучке, или знакомым. Каркающим голосом Анна Ефимовна по слогам (для невежд) произносила названия лекарств и объясняла, как их принимать.
— Стрептоцид белый, — диктовала она, — по одной таблетке три раза в день перед едой. Обильно запивать… Водой, водой! Это мне нравится. Она еще хохмы… А на ночь — теплое молоко с содой… Невкусно? Что значит? Я уже не понимаю, что тебе важнее — удовольствие или все-таки здоровье?
Бывало, что Анна Ефимовна вот так, заочно, лечила заболевшую собаку или кота:
— Главное же — своевременное питание. И ритм. Ритм. В питании это все. Для животного, я вам скажу, это имеет не меньшее значение, чем для людей…
Пока Анна Ефимовна разговаривала, Запукина успевала вся известись. То и дело она вскакивала, подходила к двери и выглядывала в коридор, крутила свои толстые пальцы с широкими ногтями, вымазанными багровым лаком, приглаживала волосы, от чего они назло ей становились дыбом. Кстати, волосы Запукина постоянно перекрашивала в новый цвет. То она была ослепительной блондинкой, то появлялась огненно-рыжая, то какая-то фиолетовая, то черная, как цыганка, но больше всего я помню ее все-таки с волосами цвета соломы, темными у корней. И вот, взъерошив волосы, Запукина металась по нашей комнате и причитала:
— Ну что же это, Господи, ну как же так можно? Я не знаю… — И наконец, со слезами в голосе выкрикнув, что Анне Ефимовне животные дороже человека, она бросалась к двери и выбегала вон. Дверь хлопала.
— Чего она? Ненормальная, да? — спросил я у теток, когда Запукина таким образом покинула нас впервые.
Тетя Калерия сказала только, что называть Веру ненормальной — несправедливо и грубо, а тетя Ина жалостливо пояснила, что Вера беспокоится: Анна Ефимовна долго занимает телефон, а ей могут как раз в это время позвонить.
— Но ей же никогда никто не звонит, — удивился я.
Тетки промолчали.
Однажды Запукина вошла, торжественная, и молча положила перед тетей Иной и тетей Калерией фотографию невзрачного пожилого мужчины. По-видимому, это и был ОН, которому она все звонила, а он не звонил. Под фотографией имелась надпись тушью: «СТОГОВ МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА».
— Интересный, — с сомнением в голосе сказала тетя Калерия.
— Глаза красивые, — неуверенно поддержала ее тетя Ина и грустно посмотрела на Запукину.
Полюбовавшись на фотографию, Запукина сообщила, что «взяла» ее с цеховой Доски почета.
Я замер в ожидании, когда тетя Калерия ей врежет, что красть нехорошо, повесьте немедленно назад, но та задумчиво произнесла:
— Если вы так серьезно к нему относитесь, Верочка, надо, чтобы у вас возникли общие интересы. Он, конечно, ведет какую-то общественную работу?
— Ага, — тараща глаза, прошептала Запукина. — Ведет. Кружок текущей политики.
— Вот и запишитесь.
— Ага, — от старательности Запукина приоткрыла рот.
Тетя Ина глядела на старшую сестру с восхищением.
Запукина записалась в кружок. Теперь она от корки до корки прочитывала «Ленинградскую правду» и внимательно слушала радио. Радио у нас было включено раз и навсегда, оно начинало говорить в шесть утра и кончало, когда все уже спали, но раньше Запукина, увлеченная своим «ОН-сказал-я-сказала-я-звонила-ОН-не-звонил», и внимания не обращала, что там передают. Теперь же могла, внезапно прервав заунывное повествование, вдруг зашикать на всех и кинуться к динамику, чтобы прибавить звук.
Анна Ефимовна жаловалась: Вера одолевает ее дурацкими разговорами.
— Можете себе представить? Только я в кухню — топ-топ. Бежит. И сразу с разными вопросами, как будто мне делать нечего. Вчера пристала: есть ли жизнь на Марсе, — это я вам скажу! Пара пустяков? Столько насущных проблем у нас тут, а ее волнует какой-то, извиняюсь, Марс-шмарс. Я уж боюсь выйти на кухню, но надо ведь покормить Негодяя, бедное животное никто не кормит!
Зачем понадобились Запукиной сведения о Марсе, неизвестно, но с этим вопросом она обращалась и к теткам, и даже ко мне. И я ей сказал, что жизнь там точно есть, кто же этого не знает? Живут пауки ростом со слона, нам об этом говорили на географии. Секунды две Запукина смотрела на меня вылупив глаза, а потом, жалобно пробубнив: «Да-а, ты шутишь, ты всегда шутишь», ушла к себе в комнату.
Что касается Негодяя, то Негодяй был наш кот, я поймал его на помойке и принес в квартиру по просьбе тети Ины — нас измучили крысы. Они съедали крупу, прогрызая кульки, из-за чего мы все могли, по словам Анны Ефимовны, угодить в инфекционную больницу с желтухой или другим заразным заболеванием, чуть ли не чумой. Кроме того, они нагло носились по коридору, стукаясь в темноте об ноги проходивших, и тогда тетя Калерия с криком: «Пасюка!»— буквально падала в комнату, вся бледная:
— Следующий раз будет разрыв сердца, эта проклятая Пасюка вгонит меня в гроб, увидите!
Тетка была уверена, что серая крыса-пасюк (кличка «Пасюка») у нас в квартире всего одна, но зато очень активная, зловредная и вездесущая.
Пасюке была объявлена тотальная война. Яд не помог. В ход пошли кошки. До Негодяя я притаскивал со двора двух других котов. Ночью из коридора доносились звуки боя — писк, шипенье, какой-то стук и кошачьи вопли. Утром мы находили кота на шкафу. Шерсть на нем стояла дыбом, ухо было разорвано и кровоточило. В руки кот не давался, царапался и шипел, а вырвавшись, бежал к двери на лестницу, где сразу начинал скрестись, громко при этом завывая.
Негодяй расправился с Пасюкой в первую же ночь. Шум в коридоре был страшный, продолжалось это несколько часов, я, помнится, так и заснул, не дождавшись конца сражения. А проснулся от пронзительного крика. Кричала тетя Калерия. В длинной ночной рубашке она стояла на обеденном столе и тонко, на одной ноте, кричала: «А-а-а-а!»
Вокруг стола бегала растрепанная тетя Ина, протягивала к старшей сестре руки, все время повторяя: «Каля, ну Каля, она же дохлая, дохлая, ну Каля же!»
Потом выяснилось: проснувшись, тетя Калерия почувствовала босой ногой что-то меховое и решила, что это кот, дрыхнувший у нее на кровати вместо того, чтоб ловить крыс. Она протянула руку — согнать — и наткнулась на дохлую Пасюку.
«Пасюк» у нас оказалось много, за неделю Негодяй передушил штук шесть. И всех до одной принес тете Калерии, которую почему-то назначил своей хозяйкой. Каждый раз вручение трофея сопровождалось воплями и залезанием на стол или диван, но кота тетки безоговорочно признали и зауважали. Негодяй был абсолютно черный, длинный, с обломанным (или обрубленным, а может, и откушенным) у кончика хвостом. Тетки считали, что для повышения боеспособности кормить его надо поменьше, а то заестся и охладеет к крысам. Анну Ефимовну это возмущало: взяли животное, обеспечьте полноценное питание. Ласковым «кыс-кыс-кыс» она вызывала Негодяя на кухню, и оттуда слышалось нарочито громкое:
— На уже! Ешь уже! Тебя же никто не кормит!
Тетя Ина как-то сказала, что эта кормежка — одна видимость, педагогическая хитрость, — куски супового мяса, которые Анна Ефимовна бросала Негодяю, были, по мнению тетки, видны только в микроскоп. Думаю, что тетя Ина была не права, животных Анна Ефимовна любила и всегда подкармливала, особенно бездомных. Последние годы своей жизни (умерла Анна Ефимовна за девяносто) она, как рассказывали тетки, «просто помешалась на этих котах»— собирала все объедки, какие оставались в квартире, складывала в сумку и ходила по соседним дворам, скликая кошек из подвалов. В одном из дворов она и умерла — упала и сразу умерла, мгновенно. Тетки завидовали: всем бы так. И говорили — это справедливо, хороший человек должен умирать легкой смертью в глубокой старости. В тот последний день Анна Ефимовна приколола к своей двери записку: «Ушла кормить кошек».
— Как чувствовала, раньше — никогда никаких записок, — вздыхали тетки.
С тех пор, говоря о смерти, они всегда называли ЭТО — «уйти кормить кошек». Тетя Калерия так и написала мне в Петрозаводск: «Алеша, приезжай почаще, а то уйду кормить кошек, не повидав тебя. Я ведь должна уйти первая, я старше, а ты уж тогда не оставляй Георгину».