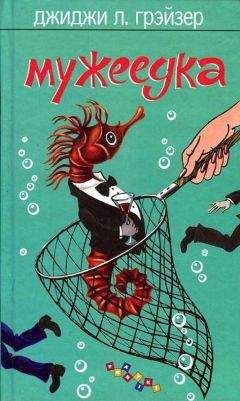Письмо было следующего содержания:
Лондон, 13 марта,
монастырь Девы Марии,
Кинг-стрит, Лейчестер-сквер, W. С.
Жан,
Я в Лондоне уже неделю. Сейчас 10 вечера, я лежу без сна. Меня поселили в келье. Одеколон, мою единственную роскошь, приходится прятать. Чемодан оставить в коридоре не позволили. Со мной лишь портреты моей матери, все еще самого главного человека в моей жизни. Поскольку моего мужа больше нет в живых, мне все равно, где находиться. Сама не пойму, почему я теперь не в Турени. Билет на пароход я купила случайно, увидев рекламный плакат. Я — одинокая молодая женщина. Мне не хватает общения, и в то же время присутствие других людей мне неприятно. Я такая же, как прежде, на берегах Луары, только с изношенными нервами. Ну вот меня и клонит ко сну.
Дельфина
Дельфина. Это имя, словно на экране, колеблется на занавесках моей комнаты. Набегают один на другой виды, сменяются пейзажи; затем на фоне дороги возникает лицо — едва успевает мелькнуть мысль, из какого небытия? — и вот оно уже в интерьере: деревянные панели, дверь, окно — это гостиная зажиточного дома; секунда, и она сменяется тропическим садом; затем кинематографический ураган, от которого не укрыться и в самом потаенном уголке, сметает все. Я вновь вижу свой камин в обрамлении светлого лакированного дерева, на котором играют отблески огня, но и он, в свою очередь тоже расчленяется, распадается, а уж затем его куски выстраиваются в череду розовых косогоров, в которых я признаю Вуврэ; начинает подрагивать каминная доска, увеличиваясь в размерах и видоизменяясь в нечто текучее — ба! Да ведь это Луара. И снова дом с двумя крыльями и одним общим крыльцом, занавески из бумазеи и пианола. Дельфина заводит для меня увертюру «Севильского цирюльника»: после приступа удушья пианола приступает к исполнению. Начинает двигаться перфорированный валик с затейливым зигзагообразным рисунком дырочек, и звук получается таким звонким. Я перевожу взгляд на волосы Дельфины, жесткие, вьющиеся кольцами — к тем минутам жизнь ничего не добавила, разве что теперь в моде волосы, вьющиеся не от природы, а завитые щипцами. Я беру Дельфину за руку и думаю: «Только это и важно». Стихают последние звуки увертюры. Мы застываем и храним молчание. Если бы это мгновение могло длиться вечно! Вскоре два глупых глаза тетки, обеспокоенной полной тишиной в гостиной, вперяются в нас сквозь стекла лорнета, нарушая наше уединение.
Мне позволяли дружить с Дельфиной, которая никогда не пачкала платья и отказывалась влезать со мной на лестницу, приставленную к баку с водой. Однако мои бабушка и дедушка недолюбливали ее за сдержанность, смышленость не по годам и манеру достойно вести себя.
— Дельфина — копия своей матери, — говорили они меж собой, не догадываясь, что я слышу их разговор. — Ее мать живет в Тулоне с морским офицером. Это дама с интересной бледностью в лице и розовыми пальцами, ее никогда не увидишь одетой как положено, вечно ходит в анамитском наряде. Заказывает кухарке экзотические блюда, а сама к ним не притрагивается. Очень гордится, что в ее доме собирается весьма необычная публика — морские волки с изборожденными морщинами лицами, всякое повидавшие на своем веку.
Дельфина жила в поэтическом мире сновидений. И каждый день детально пересказывала мне их. Ей снилась вода — чистая, когда ее ничто не беспокоило, и мутная, когда она бывала утомлена. Ее сны нередко посещали фавны, рыси, пантеры, но весьма миролюбивого нрава, с шелковистой шерстью. Вместе с ними она забиралась высоко на деревья, а оттуда падала в пустоту. Она досконально знала толкование снов, и на мой удивленный вопрос, откуда, отвечала, что состоит в переписке с госпожой Тэб, и даже показала мне письма, где та обращается к ней на «ты».
Для меня Дельфина была целым мирозданием, отличным от того, к которому принадлежал я — в нем больше прислушивались к личным переживаниям и меньше заботились об одобрении окружающих.
— Никогда не стану принадлежать к породе тех женщин, которые соглашаются, говоря при этом «нет», — говорила она.
Она вся отдавалась радости, опробуя разные слова, увлекалась идеями. Всякий опыт обладал для нее притягательной силой. Никакой лексикон не казался ей неразумным, никакое обличье — недостойным милости. Ей, никогда ничему не отдававшейся целиком, было ведомо все несовершенство мирка, ограниченного решеткой Турской таможни; любя меня всей душой, она не обманывалась и на мой счет. Ей почему-то хотелось, чтоб я носил очки.
Я пытался возвыситься над ней благодаря своему уму, одалживал ей «Доминика». Возвращая книгу, она серьезно заявляла: «Это прекрасно», и тут же следовало умозаключение: «А у вас чувствительная натура». Это была истинная правда. После еды мои щеки начинали гореть, а мой нос реагировал на любые, самые заурядные запахи. Дельфина, напротив, казалась мне такой умеренной во всем, на все имеющей собственное суждение. Для девушки ее возраста она обладала огромными знаниями и гордилась своим превосходством над другими — мальчики ее лет принуждены жить в долг под будущие успехи, что им удается благодаря лицемерию или снисхождению со стороны взрослых. Казалось, мне от природы было отпущено все, что заложено в роде людском по части слабостей, непокорности и нечистоплотности. Оставалось лишь меняться к лучшему. Ей же не оставалось ничего иного, как предстать перед жизнью со своим замкнутым лицом и пустым сердцем, чтобы быть тут же выданной судьбе; стоило ей отважиться переступить порог своего мирка, как она подверглась нападению со всех сторон всякого рода напастей, в числе коих было и ее замужество.
Само собою, виной всему была война. В 1917 году ничто в Туре не могло помешать юной француженке из буржуазной среды выйти замуж за русского офицера в мягких сапогах, который два месяца ходил за ней по пятам. Ведь это было время, когда в лазаретах можно было услышать любую речь, когда санитарные поезда встречали дамы из высшего света, падающие в обморок от запаха гниющих конечностей, когда вокруг дома архиепископа открывались чайные, а по обочинам дорог как грибы вырастали зонты, под которыми записывали в колониальные войска.
Но все это относится к более позднему времени, чем то, когда мы с Дельфиной садились на велосипеды и катили вдоль Луары до Люина.
Вышедшая из берегов река натягивала меж тополей водяные простыни. Без оглядки на поле цветущей горчицы, похожей на огромное солнце, над известковыми утесами нависал вечер. Река без устали уносила прочь свинцовое небо; медленно двигались ведомые своими ненасытными утробами стада.
Ветер дул в лицо, приходилось силой жать на педали. На Дельфине был берет и голубой свитер. Время от времени она облизывала сухие губы. Когда она предавалась праздности или сидела дома, ее лицо было чуть мрачным, только приложив усилие, она заставляла его расслабиться, делалась более доступной. Отражаясь в никеле руля, ее лицо притягивало жизнелюбием. В такие минуты мне приходилось держать себя в руках. Она переставала крутить педали и позволяла мне толкать ее одной рукой в спину — так мы и ехали.
В преддверии Сен-Сенфорьена картина менялась: наводнение не коснулось этих мест, и здесь царил обычный порядок — росли овощи, кафе были открыты, бродили влюбленные парочки. Мы бросали велосипеды на пригорке и спускались к воде. Солнце пряталось среди восставших облаков.
Турень со своей столь щедро и бессмысленно раскинувшейся водной гладью, со своим ядоносным солнцем, известковыми утесами, продырявленными пещерами, на мгновение приобретает дикарский вид. И именно в эти считанные мгновения Дельфина бывает моей: я кладу голову ей на колени, щекой ощущая жесткую ткань ее юбки. Моя шея напрягается, она по-матерински осторожно засовывает руку мне за воротник и недовольно говорит: «Да вы взмокли». Я целую ее руку, такую горячую, по-детски пухлую и уже полную земных страстей. Дельфина хмурится: «Терпеть не могу сластолюбцев, предупреждаю». Я не настаиваю, зная, что буду пристыжен за то удовольствие, которое испытываю, навлеку на себя ее гнев, как всегда, когда впадаю в отчаяние. Она поднимается первая, словно наделенная какой-то сверхъестественной силой. Я следую ее примеру.
Однажды в воскресенье я проснулся в два часа дня в турецкой бане на Джертин-стрит осипшим, с ломотой в пояснице и жжением в глазах, во сне меня мучили кошмары. Сон сморил меня после ежегодной регаты Пютней — Мотлек, в которой «восьмерка» Кэмбриджа пересекла финишную линию первой, обнаружив на концах своих голубых весел достаточно сил, чтобы совершить этот рывок, воспоминание о котором в течение целого года будет нестерпимо для команды Оксфорда.
А вечером обе команды вновь сошлись на дружеский матч-попойку в «Трокадеро», после чего, набившись в три такси и горланя, мы стали переезжать из одного мюзик-холла в другой: сперва в «Ампир», где военные кличи были поддержаны посетителями, затем в «Оксфорд», где выступал французский кордебалет и сама обстановка располагала к развязности, а после в Челси-Палас, где дело дошло до драки и потребовалось вмешательство полиции, и так до тех пор, пока не пробило полночь и Лондон не превратился в некое раскаленное, сотрясаемое всевозможными удовольствиями пространство, по которому с грохотом выдвигаемых ящиков разъезжали оклеенные рекламой омнибусы, дома кренились, как наши несминаемые манишки, а уличные гармоники омывали наши души. Когда Темза перестала отражать электрические огни мюзик-холла «Савой», настал черед подпольных клубов — этих тайных ночных бутонов — «Бум-бум», «Лотос», «Гавайи», где портье-калека, завидев нас, приоткрывал розовую портьеру, и галицийский еврей с унылым лицом охряного цвета, во фраке с пуговицами из сердолика, продавал нам талоны, по которым допускали в погребок. Так прошла эта ночь.