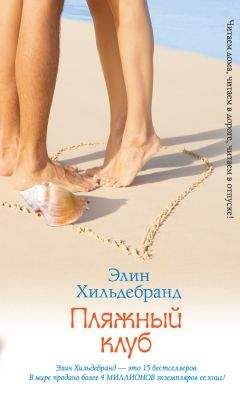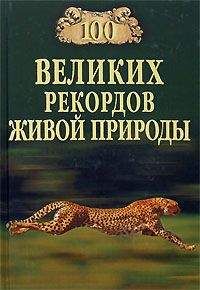– Тебе надо что-то делать с собой, со своей жизнью что-то делать. Ты посмотри, ты же опускаешься, ты уже опустился. Я слушала, как ты общаешься с Валентиной. Для тебя, ну, в общем, есть вещи, которые для тебя важнее, чем ты. Я, может, не очень ясно говорю, но тебе нужно уезжать отсюда. Ты дохнешь тут, если уже не сдох.
Что-то от разумных речей валаамовой ослицы было в ее словах. Он недооценивал Лизу, чей словарь житейской мудрости популярной психологии и ток-шоу он иногда переносил с трудом. Ему даже показалось, что Валентина Федоровна составила их временный треугольник ради Лизы, ее обучения, а сломала его сейчас в честь того, что Лиза прошла предназначавшийся ей курс наук. Его же роль была ролью подающего реплики: мальчика на поле для гольфа. Он ответил:
– Ты меня переоцениваешь. Мне некуда ехать и незачем. И у меня тут Маша.
– И что ты ей тут дашь? Воскресные прогулки? Она скоро вырастет, – перешла Лиза на свой обычный жаргон, – за что ей тебя уважать?
– Надеюсь, что все-таки есть за что.
– Это ты так думаешь, а для девочки важно, чтобы отец был уважаемым человеком.
– Кем?
– Всеми. Да ладно, не в ней же дело. С ней пока все в порядке. А ты болтаешься, как нигде ни при чем.
Он улыбнулся. Оказывается, он настолько подходящий объект для поучений, что даже только что подросшей девочке пригодился в этом качестве. И Лиза тогда полностью права насчет дочери – совсем скоро Маша начнет разговаривать с ним таким тоном, открывать ему глаза на его жизнь. Свое многолетнее избегание “общественного положения” он считал неплохим выбором по сравнению с тем, что мог бы навсегда, на всю жизнь стать кем-то. Но Лиза права, вмешивая в эту историю дочь, дочь, пожалуй, потребует не сегодня, так завтра, чтобы он помещался в каких-то четких и понятных, например ее одноклассникам, границах.
– Тебе тут – полный каюк, – уговаривала Лиза.
– Мне всегда казалось, что мне это подходит. Я и каюк – вполне подходящие друг другу вещи.
– Ну, знаешь, так в пятнадцать лет рассуждают.
– Возможно… И потом, несмотря на каюк, мне нравится здесь. Я люблю юг. Что ты так смотришь? Я как будто оправдываюсь.
– Твое дело. Только я хотела предложить тебе…
Лиза предлагала помочь ему перебраться в Питер. У нее есть комната на Петроградке, ее лично, осталась от бабушки, в которой она пока не живет. Живет с родителями. Эту комнату она может ему сдать, для начала – в долг. Жить ему в ней совсем бесплатно, наверное, не разрешат родители, решат, что у Лизы с ним роман (тут Лиза хихикнула), с работой она, возможно, тоже сможет ему помочь, у нее есть подруга, журналистка в глянце.
– Какое я имею отношение к журналистике? – спросил он.
– Ты же фотограф.
Деловитость – способность быстро соединять в уме простые вещи с такими же простыми вещами. Эту формулу он составил еще из наблюдений над Вадькой. Теперь у него появилась другая догадка насчет замысла Валентины Федоровны. Она соединила его с Лизой, как барышня-телефонистка прошлого, чтобы вытолкнуть его из уютного юга, где он засиделся, и переместить на север, который она (“поезжайте в Русский музей”) для него задумала. Но реальнее всего думать, что Валентина Федоровна действовала во всем стихийно и никаких особых планов насчет него и мыслей о нем у нее не было. Лизина забота его смущала и была точно связана с беседами у Валентины Федоровны, которой он тоже выговорил то, чего выговаривать не собирался.
– Спасибо, – сказал он Лизе, – ты серьезно так ко мне отнеслась. Я, наверно, не тот человек, которому нужно срочно помочь. Ну и он прям выплывет сразу “на простор волны”, задышит полной грудью. Я дышу, как могу и чем умею. Полнее – не вдохну. А может, наоборот, – я и так хорошо дышу. Не прерывисто: в забегах не участвую. Но все равно – спасибо.
– Напрасно. Ты запиши мой телефон. Я через неделю уезжаю. Вдруг тебе стукнет: опомнишься, ах, что ж я с ней не поехал! Звала ведь, уговаривала! Ах, я дебил злосчастный!
***
Эти слова про дебила он вспомнил недели через две, когда снова стал ходить по утрам в свой фотосалон и сидеть там до вечера. Хотелось уехать хоть куда-нибудь. Сначала думал: все равно и там найдется для меня фотосалон, только еще будет холодно и темно. В одно из утр, когда ему особенно не понравилось переступать порог пластикового офиса, он подумал: а вдруг – нет. И еще подумал: я хочу поехать. Надо позвонить Лизе. Денег надо где-то достать.
Вечером накануне отъезда немного посветлело после пасмурного дня, но солнце не вышло. Море было гладким, ровным и непрозрачным, матовым. Почти не было звука прибоя. Оно было похоже на какое-то вещество, более плотное, чем вода. Можно бы привычно сказать, что на жидкое стекло, если не знать, что расплавленное стекло становится красным. Как оказалось потом, этот пейзаж работал прогнозом той погоды и того пейзажа, на который ему теперь предстояло смотреть: точно такое же море он увидел потом на севере, где оно обычно таким и бывает, и подумал о сообщающихся сосудах.
Несколько дней перед этим он бегал по городу, одалживая деньги у тех, кто мог их ему одолжить, отнес жене ключ от своей квартиры, чтобы жена могла ее сдавать и тем заменить, даже увеличить, его обычные выплаты для дочери. С Машей он прощался тяжело, он скучал по ней и здесь, не видясь с ней в течение недели. Но Маша отнеслась к его отъезду по-другому, отнеслась, как Лиза, она радовалась, что он будет жить в другом, большом, городе и она сможет к нему приезжать. Он съездил еще в Ялту к матери, где она жила последние несколько лет после того, как вышла замуж. Ей понравилось, что он уезжает. Она опять говорила о его планах с энтузиазмом, как говорила раньше: тогда, когда “посвящала ему жизнь”, до того, как разочаровалась в нем.
В поезде, как всегда, когда так близко от него оказывалось большое количество людей, он опять замечал, как его поведение выпадает из общечеловеческого. Теперь его отличие состояло в том, что, пока все люди вокруг занимались своими делами, своими сумками, детьми, обустройством для себя этого тесного, временного жилья, он занимался ими. Он рассматривал их, как ребенок, которого взрослые оставили подождать в случайном месте. Люди, на которых он особенно сосредотачивался, отгоняли его взглядами в упор; он отводил глаза, но потом невольно снова возвращался – наблюдал, любовался, удивлялся, и снова его заставляли отвернуться. За это время его несколько раз попросили встать, перейти “на минуточку” в другое купе, помочь забросить вещи на верхнюю багажную полку. Он вставал, переходил, забрасывал и уже чувствовал, что за полчаса приобрел репутацию бездельника, человека без личных интересов, и что, когда его соседи по купе устроятся, рассядутся, съедят свое запеченное мясо и вареные картофелины, решат свои кроссворды и устанут читать детективы, то, развлекая себя разговором с ним, они начнут с выяснения, чем он занимается, где работает и зачем едет, и заранее продумывал веские причины для своей поездки, чтобы не признаваться, что едет просто так.
Пока ехали дальше через Украину, на станциях садились новые люди, другие, чем крымчане и севшие в Крыму москвичи-питерцы. Он быстро определил, чем отличаются москвичи-питерцы от провинциалов. Это был другой уровень погруженности в быт, более глубокий. То, что казалось той самой “культурой”, – было более серьезным отношением к вещам, к их отбору, более сознательным и с важностью производимым потреблением, ни в какое сравнение не идущим с легкомыслием озабоченных, казалось бы, своим бытом южан со всей их картошкой и консервацией в ящиках под нижними полками. Столичный отбор совершается не по степени близости к культуре музеев и музыкальных залов, а по степени практичности, которая давно перешла из головы в тело, уже действующее практично само по себе, не рассуждая. Это у них работало в сочетании – глубокая практичность, экономия жеста в том, чтобы не ударить палец о палец без видимой пользы, и в то же время – ровная, бесперебойно производимая все тем же телом, без участия головы, бодрость, когда дело касается добычи, обеспечивающая выживание в любых условиях.
Ехали через Орел, где в сквере сидел белый, в сапогах, с собакой и охотничьей сумкой, набитой, судя по всему, рукописями, привокзальный Тургенев, через неровный, раздираемый холмами на части Мценск. Езда была для него большой радостью, он не скучал, а, как его дочь на карусели, боялся, что вот-вот остановят и все закончится. Он проснулся рано утром, часов в пять, и со своей верхней полки смотрел вниз, за окно. Там внизу лежал туман. Он уже очень давно не видел утреннего тумана: не вставал так рано и не оказывался в это время за городом. Теперь он пожалел, что будет жить в городе, а не в этих прекрасных, утопленных в тумане местах.
Поздним утром, при обычной местной погоде подъезжая к Питеру, он увидел местный же народец, собиравшийся в своих заводских пригородах не сказать – по три, но по пять и больше человек с гранеными стаканами в то время (в прямом смысле, поскольку все это он наблюдал со скоростью мчащегося поезда), как из складских, огороженных колючкой помещений выходили две женщины с тяжеленной, растянутой между их руками сумкой. Он усмехнулся про себя тому, что народ с утра принялся за свои обычные дела и к десяти часам уже хорошо в них преуспел.