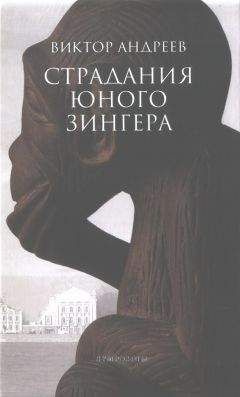— Да то же самое, что и на «б». Но только с суффиксом. И словечко это, признаться, мой африканец выговаривал со смаком. Ох, с каким наслаждением! Надеюсь, душу отвести он сумел…
Вы видели, как цветет баобаб?
Люди делятся на физиков и лириков, начальников и подчиненных, вольных и зэков. На женатых и на холостяков. Сергей Миронцов понял это, когда оказался в длительной заграничной командировки один, без семьи.
Он был уже довольно давно женат, привык к уютно-размеренной, спокойной жизни и успел напрочь забыть, что это такое: готовить и стирать самому.
Командировка оказалась для него долгой, почти невыносимо долгой — будто затянувшаяся пауза посреди неприятного, напряженного разговора.
В начале была просто тоска, потом — вялое пережевывание воспоминаний, ожидание писем, ежедневная работа. А к концу появилось ощущение: он никогда не уедет отсюда, останется в Африке навсегда… Как когда-то в детстве, родился вдруг страх пространства. Ночью Миронцов подолгу лежал в постели, не шевелясь, боясь закрыть глаза.
Стараясь как можно реже бывать дома, Сергей ходил по квартирам своих коллег. Путано — нудно и длинно — говорил о своих мелочных заботах, тревогах, о жене, сыне. Он понимал, что надоедает людям, что его разговоры — никому не интересны, что его едва терпят, и, уходя от знакомых, вспоминал свои разглагольствования со стыдом, но поделать с собой ничего не мог: вечернее одиночество было много хуже.
Так продолжалось изо дня в день. Хорошо еще, что счет до отъезда, как бы там ни было, шел уже именно на дни.
Был июнь. Почти ежедневно лили дожди. Сырой воздух после дождя, запах мокрой земли, свежесть омытых трав и листвы напоминали о родине, о России.
Как-то вечером Сергей Миронцов отправился было в привычное путешествие по знакомым семейным квартирам. Но неожиданно для себя передумал.
Ушел в город.
Мягкий вечерний свет успокаивал. Миронцову уже хотелось побыть одному. Чтобы он никому не мешал, и ему не мешал бы никто…
В полутьме какого-то переулка он неожиданно набрел на огромное черное дерево. В вышине, среди безлиственных темных ветвей, были видны несколько белых пятен. Сергей никогда не увлекался ботаникой. В России лес для него был однообразен — ну, лес и лес, совокупность деревьев. Можно сказать, Сергей просто не замечал леса. Он не ощущал себя частью природы. Проживший всю жизнь в городе, он не любил бывать ЗА ГОРОДОМ и подчас заявлял об этом даже с некоей гордостью.
Сейчас он стоял перед огромным африканским деревом и, задрав голову, пытался рассмотреть, что же это за белые пятна — там, вверху… Почти тотчас догадался: цветы.
Вспомнились скудные обрывки знаний об африканской природе.
— Баобаб? — машинально спросил он себя вслух.
— Уи, месье, — изо тьмы отозвался ему в ответ голос проходившего мимо африканца.
Любопытство Сергея было удовлетворено.
Уже совсем стемнело.
Он пошел было прочь, но вдруг заметил: над головой происходят удивительные вещи.
Смотри, смотри!
Большой, зеленый, почти невидимый в темноте шар начал медленно трескаться. По его зеленой кожице протянулись пять белых ниток. Лепестки отделялись друг от друга — цветок становился подобен светящейся лампе под темно-зеленым абажуром. Он был полон молочной белизны — этот, рождающийся прямо на глазах, цветок!
Почти одновременно, чуть выше первого цветка, вспыхнуло несколько новых ламп.
Чернота ночи вокруг сгустилась еще сильнее, но сама ночь стала теперь нестрашной. Она была торжественна и прекрасна.
Из ближайшего кинотеатра доносились громкие голоса киногероев и зрителей. Доверчиво шелестела трава у ног (Сергей даже не вспомнил о змеях). Шуршали крыльями летучие собаки, стайкой носившиеся вокруг расцветающего баобаба.
Почти час простоял Сергей как завороженный на одном месте. Над ним, прямо над головой, свершалось рождение новой жизни. Гигант бережно раскрывал свои цветы и одарял радостью чуда случайного прохожего. Он превращал быт — в бытие.
…Несколько дней подряд Сергей, ликуя, спрашивал своих знакомых:
— Вы видели, как цветет баобаб?
Он знал, что ему ответят: нет, — и каждый вечер водил к цветущему дереву любого, кто пожелает.
Баобаб снисходительно позволял любоваться собой.
Так прошли самые последние дни Сергея перед отлетом в Москву.
Когда самолет шел на посадку в Шереметьево, Миронцов на минуту закрыл глаза и снова увидел — словно впервые, словно наяву: молочной белизной светятся в тропической тьме новорожденные цветы баобаба.
— …Ты не подумай, что мне хочется читать тебе мораль, а уж тем более — нравится это делать. Да впрочем, тебе ведь и неинтересны люди сами по себе, отдельно от тебя. Тебе важно только знать: как ТЫ выглядишь в их глазах, какое ТЫ производишь впечатление. Ты — жесток и эгоистичен. И страшно самолюбив. Ты и сам не знаешь — насколько!.. Мне ведь не за себя обидно… вернее, конечно, обидно… ну, да что уж теперь об этом… Я просто хотела бы… Нет, я все время сбиваюсь. Извини меня и пойми.
— Да я что ж, я понимаю. И говори, пожалуйста, сколько хочешь. Еще Чехов заметил: если в первом действии раздается телефонный звонок и трубку снимает женщина, то заканчивает она разговор только в третьем действии. Впрочем, это в плохих пьесах…
— Обидеть хочешь? Победителем остаться хочешь? Не сможешь, мой милый! Ты вот скажи: зачем тебе нужна была наша сегодняшняя встреча? Не хочешь, чтобы у меня о тебе остались плохие воспоминания? Разве я не права? На прощание хочешь сыграть роль благородного рыцаря… Ну скажи, что — не так. Скажи!
— А мне наплевать, какого ты мнения обо мне. На-пле-вать! Ты — довольна?
Впрочем, мне наплевать на то, что и как я сейчас говорю. Правда, конечно, я мог бы и отмолчаться…
В наших отношениях уже ничего не изменить, не поправить. Как ни склеивай разбитое… Да и нужно ли?
Когда приходит не-понимание?
И почему, упрекая меня в эгоизме и черствости, ты не смотришь мне в глаза? Разве только я один был виноват?
Ну что ж, прощай.
Время, как говорится, — лучший лекарь.
Мне хочется победить время.
Бывает так, что меня, словно скрежет железа по стеклу, раздражает неизменное течение суток: день — ночь, день — ночь. Тикают и тикают часы. Ненарушимый распорядок дня. И всех дней недели. Что бы ни случилось с тобой — все равно после понедельника наступит вторник… Это еще Чехов сказал, не так ли?
Раздражает смена времен года, их неуклонная последовательность. Сейчас — осень, значит, потом придет зима. За зимой — весна, за весной — лето, за летом — осень. Снова осень. И опять все — по новой. И так — каждый год. Год за годом. Все — неизменно, а проходящее время только прибавляет количество времен года, количество лет. Прожитых тобой лет.
Хорошо в Африке: там нет этой неукоснительно соблюдаемой смены времен года.
Впрочем, в Африке — еще хуже. Там — всего два времени года: сезон засухи и сезон дождей. Жара и ливни.
Зной застывает в пространстве и во времени. Он — безысходен. Ни облачка — от горизонта до горизонта. И нет движения небесных светил. Земля — раскаленная сковородка, и ты ужом вертишься на ней. Час длится как день… или еще дольше…
И так — день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем.
Но в конце концов время все же сдвигается с мертвой точки. Приходят дожди. Ты принимаешь их как благодать. Но знаете, что такое — тропический дождь? Маяковский написал точно: «Сплошная вода с прослойкой воздуха». Ливни и грозы запирают тебя в четырех стенах. И ты начинаешь жить ожиданием будущего зноя.
Жара, ливень, жара…
И от этого никуда не деться.
Да и куда ты, голубчик, денешься? Тем более — от себя?
…В какой-то деревушке уставший шофер-африканец остановил машину, лег головой на руль. Я выпрыгнул из кабины и пошел по дороге вперед: там виден был мостик. Ветер закружил вокруг меня пыль крохотным столбиком, она вкусно пахла ванилью. Второй час дня. Небо — белое, словно застиранная простыня. Почти невидимое, выцветшее солнце застыло… где-то там… над головой, которую тяжело поднимать.
Ветер затих. Воздух остановился и стоял неподвижно — он не желал струиться. Только перед глазами все время плыли надоевшие, словно комары, какие-то круги и точки.
Под мостом тек ручей. Я опустил ладони в воду — она была прохладной — и закрыл глаза.
Когда я открыл их — голый черный мальчик, рахитичный, с грыжевым пупком, стоял рядом, с любопытством и с испугом смотрел на меня.
— Comment ça va, mon petit?
Но малыш, наверное, совершенно не знал французского. А я не знал его родного языка, я даже не знал названия его языка… Мальчик сморщил лицо, я подумал: сейчас он заплачет; но малыш засмеялся и кособоко, словно краб, побежал от меня.