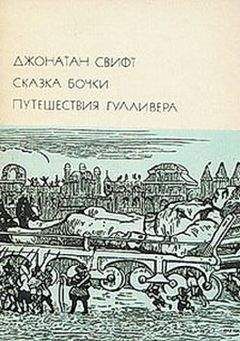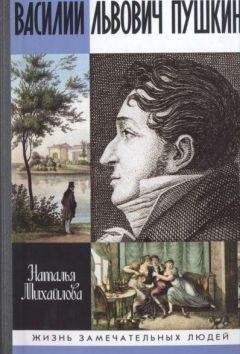Но диванное время быстро вышло; нужно было срочно упорядочить финансы. В Трубниках под навесом сберкассы прятались от снежного дождя валютные менялы. Рублей у Мелькисарова было много, долларов у них – мало; два месяца кряду он ездил сюда ежедневно, как на работу. Ставил свой «Фольксваген» на прикол, пересаживался в раздолбанный «Москвич» барыги; они отъезжали за угол, запирали дверцы изнутри, включали обогрев и слюняво считали тертые купюры. Каждый думал про себя: за сколько бы он мог меня пришибить? Однажды взгляды их встретились; оба рассмеялись и обмякли.
К двадцатым числам января рубли иссякли; валюта уместилась в два потертых кейса. А двадцать шестого случилась денежная реформа; люди брали сберегательные кассы на абордаж, падали в обморок, ненавидели себя и всех. Мелькисаров походил пешком по центру города, понаблюдал за столбами пара, которые поднимались над стариками в свальной очереди; сочувствие мешалось со злорадством: успел. Злорадство уступало место жалости: бедняги…
Вскоре ему позвонил Циперович. Как ты – как ты? Что ты – что ты? Наконец дошли до истинной причины:
– Ты по-прежнему хотишь Пастернака? У тебя как с долларями? Я в полном пролете с наличкой; Кацоев недоволен; приезжай.
Старый багет был уже аккуратно расшит, грамотно упакован; холст безжалостно свернут телескопической трубой. Бодрости в Циперовиче поубавилось; он был раздражен, о делах говорить отказался, пересчитал пятьдесят тысяч, профессиональным движением скатал пачки резинкой и без– застенчиво поторопил: давай, давай, получил свое, счастливчик, и вали, сейчас не до тебя. – Рослой блондинки при нем уже не было.
На возвратном пути Мелькисаров уперся в долгую толпу интеллигентов, которые упрямо шли по Тверской на Манежную выстаивать очередной демократический митинг. Паршивенько одетые, у кого пальто на размер больше, у кого штаны на три пальца короче. Снег метался в разномастном свете фонарей, присыпал толпу. Толпа ежилась, но продолжала медленное, жуткое движение. Сто, двести, триста тысяч человек; остановить их было невозможно; Мелькисаров понял, что нынешней власти конец.
Додумать, что из этого проистекает, он не успел. Подступающая нищая свобода вполне могла обойтись без сахара, но не могла – без информации. Степан Абгарович увлекся электронной почтой, сошелся с курчатовским ядерным центром, подивился мертвой хватке академиков, выстроил цепочку, запустил процесс. Обедал два раза в день, ужинал – три: перемещался со встречи на встречу, с переговоров на переговоры. Он беспощадно разжирел, но жизнь опять приобрела масштаб, наэлектризовалась, игра пошла на интерес, приносящий колоссальные деньги: сегодня тысячу, завтра сто, послезавтра миллион. Такое было ощущение, что ты несешься сквозь время нарезной пулей, раскаляясь докрасна от трения встречного воздуха. А дальше что? Какая разница. Пуля не спрашивает, что будет дальше; ее дело лететь со свистом и в конце концов поразить цель, которую наметил незримый стрелок.
6Посмотреть со стороны – все выглядело очень странно. Холодное солнце светило резко, больно. Или это начинала ныть пьяная голова. На окно нанесло мелкого сухого снегу, и солнце казалось рябым; по подоконнику крошились тени, похожие на просыпанный мак. Бутылка постепенно пустела, грязные тарелки были сдвинуты на край, поближе к мушке автомата; пепельница наполнялась серым пеплом милицейских сигарет и старомодными бычками папирос. (Мелькисаров говорил, что «Беломор» – благородная штучка; а сигареты – жженая бумага, курительный онанизм.)
Шел какой-то странный диалог, постороннему решительно непонятный. Коротких реплик не было, друг на друга накатывали античные монологи, разыгранные по театральным правилам. Современный человек говорит ровно, без деревенских фиоритур, повышений, понижений, усилений и всплесков; а тут подвыпившие голоса звучали торжественно, интонации были почти актерские, со слезой, иронией, угрозой, презрением.
Майор. Вот еще звено, вот еще. Мы опять придем, водки попросим – кстати, наливай, наливай – но цена уже будет другая. Сегодня уступим за четыреста, через месяц скажем: лимон. Не поймем друг друга, не беда, мы терпеливые. В четвертом квартале девчонки наши, мышки с наружки, пошуршат бамажками, еще звено-другое нарисуется. Опять с тобой выпьем – будь здоров, Степан Абгарыч, не держи зла – попросим полтора. На третьи сутки позвонишь, но в ответ услышишь: извини, инфляция, два. А там еще и прокурорские возникнут, ты же от налогов уходил?
Мелькисаров. Моя очередь – общий привет, не чокаясь. Красиво разводите. Уважаю. Но это все от головы, а не от жизни. Сорок клеточек закрасили, еще десять потом закроете. Повезет, пять-шесть подтянете, подтасуете. И все. В коммуне остановка. Никакой суд в производство не примет. Ты прикинь: я вас пошлю, ничего не дам. Через месяц придете, покажете веселые картинки, опять попросите. А я опять отправлю. А еще через месяц объявитесь – будьте счастливы ребята, дай-то бог не последняя – и скажете, ну ладно, брат, уговорил, делаем наш милицейский дисконт ко дню пограничника: семьсот. И услышите: поздно, братва, рубль укрепляется, акции падают, дам я вам, пожалуй, триста. Ты, майор, ответишь грубо и невежливо. А через неделю снизойдешь: добро. Не, отвечу я тебе, двести пятьдесят. Прям щазз. А завтра будет сто.
Майор всосал помидорную мякоть, помолчал, что-то про себя взвесил и внезапно сбил весомый ритм до неприличия быстрым вопросом:
– А зачем же ты вообще тогда платить согласен, если смелый? За что – двести пятьдесят?
– За ваш труд. И за мой покой. Кстати, хороший тост, ты не находишь? Чтобы другие вместо вас не пришли, не начали ныть. Придут – я к вам отправлю. Ты же сам знаешь, майор: в бизнесе лучше не жадничать. Я с судьбой не торгуюсь. Я от судьбы откупаюсь.
– Откупись за четыреста. – Майор уже почти просил.
– Не хнычь, не дам. Ну, за нас, за вас, за золотой запас.
Первый тайм Мелькисаров выиграл. Не нокаутом, так по очкам. Лейтенант сидел сумрачный, ссутуленный; рюмку брал с отставленным мизинчиком, пил через раз, глоточками. Майор, наоборот, выпивая, запрокидывал голову, тряс брылями. Он начал густо краснеть – краска медленно поднималась от загривка по щекам, захватывала надбровья, постепенно продвигалась к лысине; на лысине выступали капельки пота.
Майор убрал разработку в портфельчик, достал другую объемную папку. По стандартным пролинованным листам расползались протоколы допросов, заполненные в разное время, разными чернилами и почерками. Витиевато-четкие буковки (чернильная ручка, фиолетовый цвет) выдавали военного. Округлые и ученические (ручка шариковая, толстые буквы) – старательного мальчика из рабочих. Полуквадратные, с наклоном влево (разумеется, тончайший гелий) – садиста, который стал следователем, чтобы не стать маньяком. Но все дознаватели с одинаковой четкостью вели к одному и тому же: Мелькисаров С. А. в составе преступной группы и по умыслу содействовал отмыванию нелегально нажитых средств и нанес ущерб государству и третьим лицам в доказанном размере 120 млн. руб. Все протоколы были подписаны; доказательства (реальные и мнимые) подшиты, а графа «Уголовное дело №…» – пуста. Согласишься заплатить – погасят, заартачишься – заполнят.
– Что ж так мало? – спросил Мелькисаров. – Могли бы и ярд приписать.
– За ярд – пожизненное. А это, извините, было бы жестоко, – неожиданно включился лейтенант и снова замолчал.
Греческие монологи сменились доминошными пасами. Четыреста – нет, двести пятьдесят. Триста девяносто – да двести пятьдесят же. Ладно, триста семьдесят – двести пятьдесят, сказано вам.
Тупик.
Бутылка закончилась; куда ж ты ее? ставь покойничка под стол, иди за новой.
7В самый день легендарного путча они улетали в Женеву: Томский открывал совместный фонд и запузырил многодневную гулянку в самом центре кальвинистской аскезы.
Выехали рано, дорога была пустая; день обещал быть жарким, но охристый свет стелился уже по-осеннему плоско, как будто солнце светило не сверху вниз, а вдоль, от горизонта. Не доезжая кольцевой, они притормозили, скатились на обочину: навстречу им тянулась бесконечная колонна бронетранспортеров. Что там радио нам сообщает? Радио нам сообщало, что Горбачев не может исполнять обязанности президента, временно введено чрезвычайное положение, и просьба ко всем советским гражданам соблюдать порядок и спокойствие.
Беременная Жанна мелко задрожала, прижалась к нему, как ребенок: Степа, что теперь будет? мы сможем вернуться? а маму в случае чего забрать? Мелькисаров ничего ей не ответил, погладил по головке, нежно чмокнул в чистый ясный лоб и завел машину: опоздаем. В Шереметьево отвел в сторонку растерянного Томского, сказал: я остаюсь, а вы летите. Думаю, что к самому концу успею; кое-какие проблемы возникли, но думаю, что разрулю. Томский прикусил пшеничный ус, полуприкрыл свои голубые фельдфебельские глаза, покачал головой, и безнадежно сказал: «Расхлебывай, старик, и прилетай. За Жанну не боись». Как будто произнес последнее прости.