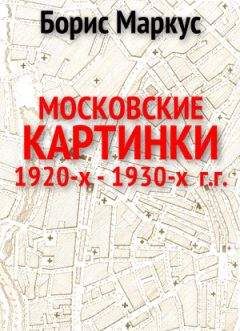Хватило трех лет, чтобы стало ясно: судьба предоставила мне отсрочку. Хватило трех лет, чтобы в майский день отечество предъявило счет, и я заплатил по полной программе.
Но их еще надо было прожить. Пока же я несся на встречу с городом, и сердце мое учащенно вздрагивало, как и положено перед свиданием. Недаром же девушка мне обещала, что мы непременно свое возьмем, пусть только поезд придет в Баку.
За окнами, едва различимая во влажном сумраке, мимо летела, словно притихшая в ожидании своей утаенной и смутной участи, незрячая сдавшаяся земля, недавно отпраздновавшая победу. И все-таки впереди был юг, и сами собой возникали в сознании и фиолетовыми искорками вспыхивали и строились строчки. Вот я и вспомнил их — все до последней.
А ночь неслась и пела,
Густела тишина,
Уже вблизи кипела
Каспийская волна.
До старого перрона
Всего лишь два часа,
Вновь ветер Апшерона
Наполнит паруса.
Все верно. Уже позади Хачмас. Еще немного и — Баладжары, Насосная, счет идет на минуты.
Я думал неустанно,
Предчувствием томим,
Как я кружиться стану
По улицам родным.
Даны на три недели —
Бездонный небосвод,
Бакинские качели,
Бакинский хоровод.
Однако еще важнее и сладостней, что скоро я вновь окажусь в столице.
И все ж стрелой из лука,
Отторгнув тетиву,
Стряхну истому юга,
Рвану в свою Москву…
И вот — кода!
…Где "Молодость" на сцене
И молодость в крови,
Где ждут, как на арене,
Безумства и бои.
И я войду, как в реку,
В жестокую весну,
В угрюмый полдень века,
Глодавшего страну.
Какие неуклюжие строчки! Но сколько в них веселого хмеля! И даже последнее четверостишие, в котором я себя заставляю взглянуть на все, что мне предстоит, трезво и холодно, не обманываясь, не могут ни утаить, ни умерить переполнявшей меня уверенности — все сбудется, сложится, как мечталось, как снилось, под зов паровозных гудков.
Так надо ли, сохраняя лицо, отречься от юга, от этих рифм, таких же смешных, как мои надежды, теперь, через шесть десятилетий?
В конце концов, правыми оказались не поздняя трезвость, а юная глупость, не опыт, а давнее нетерпение, не разум, а кураж и азарт. Ведь был же какой-то особый смысл в не оставлявшей меня всю жизнь потребности в рифме, в тяге к созвучию, в неукротимой власти мелодии. Возможно, в них были заключены попытка упорядочить хаос и бессознательный поиск согласия? Я так и не смог себе объяснить. Не смог ни понять, ни догадаться.
Но шесть десятилетий спустя не угасает далекий сон: все мнится, что я еще еду в том поезде, что он несет меня в пестрый город. Стою у окна, смотрю, как летит незнамо куда земля за стеклом, и слушаю непонятную музыку, звучащую для меня одного. Я еду навстречу солнцу и счастью.
Не зря обреченный исчезнувший Шумский вдруг что-то приметил и угадал. По тайным приметам. По блеску глаз. Пусть даже случится все, что положено, на этом непостижимом пространстве, где я появился однажды на свет, где я услышал, как старая женщина горестно спрашивает у Господа: "Что же ты выбрал одну страну и тысячу лет ее мордуешь?" — в этой стране, не любимой Богом, по прихоти неба, по воле судьбы, мне выпала хорошая жизнь.
Быть может, поэтому старые рифмы, которые так давно отлетели и словно истаяли навсегда, послушно уступив свое место сперва диалогу, а после — прозе, вдруг неожиданно пробудились. Оказывается, они не ушли, не исчерпались, а затаились, забились в угол и ждали сигнала. Очнулись от сна длиною в жизнь.
И с ними, как в песне или легенде, вернулись те бражные дни, та девушка, и дробный колесный стук, и поезд, идущий на юг, тот черный год, кровавая середина столетия, столица, совсем недавно отметившая свой праздничный восьмисотый год, и эта израненная отчизна, со славой одолевшая Гитлера, чтоб сразу же припасть к сапогу рябого усатого атамана.
Все ожило, наполнилось плотью, стало сегодняшним и осязаемым. И вряд ли случайно. Прощальные дни мы проживаем и переживаем с предельной, с безоглядной отдачей на перекрестках бессонной памяти. Там мы безумствуем, там живем.
И ныне, когда завершились странствия, когда окончательно стало ясно, что человеческая судьба почти невесома и тоньше волоса, все еще, вопреки рассудку, еду в том поезде, еду в мой город, где некогда явился на свет.
Еду и тороплю минуты, и в лад колесам стучат безыскусные, непритязательные рифмы, казалось, забытые навсегда. Вот они вздрогнули, шевельнулись. Заколотились, толкнулись, ожили. И зазвенели, словно бубенчики, шесть долгих десятилетий спустя.
…Невидимые нити,
Неведомый исход.
Двадцатый век в зените.
Сорок девятый год.
Сентябрь-декабрь 2010