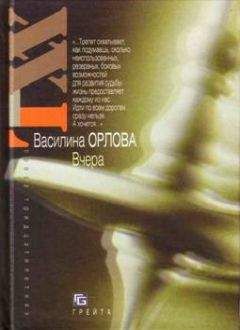— Деточки, что ж вы у меня такие глупенькие? — Решил покуражиться знаменитый автор десятка учебников. — Ни фига вы не учитесь. Балду гоняете. А я вас люблю. И поэтому на экзамене пощады не будет.
Вряд ли найдется такое место в истории философии, куда Макар телят не гонял.
Досадует. Собирает лоб в складочки. Поворачивается к доске. Там значится: «Если есть инкубатор, должен быть и суккубатор!»
— Кто автор?
— Я, — отзывается Слава. Макар склонил голову.
— Неплохо. Даже остроумно. Хотелось бы, однако, получить некоторые разъяснения. Вдруг остальные, как обычно, не осведомлены…
— Кто такие инкубы и суккубы? — Подхватил Слава.
— Именно.
— Жмурики. — Слава скорчил рожу. В аудитории захихикали.
— То есть мертвецы? — Уточнил Макар. — Какие?
— Ну…
— Развернутый доклад к следующему семинару, — приговорил Макар.
Слава обреченно падает на скамью. Юрик треплет его по плечу, соболезнует. Эти двое представляют собой наглядное пособие по Сервантесу. Не меркнет в веках дружба увальня и идальго. Вот только здесь верховодит больше Санчо Панса.
За столетия Санчи Пансы поумнели значительно. А идальги столь же явственно поглупели. Славка недавно выкрасил волосы в рыжий цвет, настолько рыжий, что смотреть на него без содрогания невозможно. Славка — фэн битлов, он носит черные майки с фейсами рок-звезд и с исступленностью Дон-Кишота метит в великие музыканты. Или просто в великие.
В сознание пробился голос Макара:
— И когда вы, друзья мои, поймете, что вы — ни что иное, как субстанция, вы полюбите. Полюбите — во вселенском смысле. Все страдания мира станут вашими страданиями, все люди будут вами. Пир мысли, блаженство воображения… Самый непротиворечивый мир Лейбница каков? — Вопросы Макара внезапны.
С точки зрения нормального студента, вопрос глуп. Судя по лицу Макарова — умен.
— Состоящий из одного элемента, — лениво отвечает Никита.
Никита интересует меня давно. Я его не интересую.
— Да! — вскрикивает Макар, утвердив восклицание размахиванием авторучкой.
Экие мы сегодня сообразительные! Браво, Никита-умник. Профиль романтического героя — с горбинкой нос, светлые глаза, острый угол губ… Уловил взгляд. Улыбнется? Нет, морщится. Оборачивается. Нет, не смотрю, не думай. И не надо воображать себя прынцем наследным.
Подумать только, какое несообразие: в сегодняшней суете мы принуждены читать Спинозу, Лейбница, Шопенгауэра… Сонмы людей прошли через жизнь, пропали, сгинули, мы живем в другое время, сама жизнь другая — что может нам поведать Спиноза?
— Спиноза доказывал поэтические мысли математически. В этом он весь. — Высокие брови Макара в благоговении.
Народ скучает. Кое-кто вздремывает после вчерашнего шабаша на дискотеке «Мастер».
— Девочки, ненаглядушки мои, красавочки, слушайте!..
На девичьих лицах — тупой интерес. Впрочем, чаще к соседу по парте. Или человек неравно за пределами аудитории, витает.
Лично я специалист по здешнему интерьеру, разглядываю стены. Какое смятение я чувствовала, когда впервые вступала в эти стены на правах их властителя! Как сладка была неисследованность бесконечных коридоров и таинственность лестничных маршей…
А теперь? Все входы-выходы давно известны, лекция по глобалистике удручает, а уж физиономии эти…
Зато прямо так в дипломе и напишут: «Философ…» Впору сунуть под нос хоть самому Аристотелю. Поди, у него, сирого, не случилось такого диплома? Глянула бы я на того Аристотеля на экзамене в МГУ.
Однажды бабушка спросила:
— Дак кем ты будешь, как выучисся на своем факультете? Я отвечала гордо:
— Философом.
— Ну, а прохвессия у тебя какая будет?
— Такая и будет, бабушка, — вздохнула расстроенно.
— Так заниматься чем сможешь? — Слегка рассердившись, прикрикнула она.
— Ну… Преподавать смогу… Переводить… Статьи писать…
— Оно как, — качнула она головой, — Хвилосов… Шо ж це за специальность такая?..
Не умела я с бабушкой до прошлого лета разговоры разговаривать. Чаще мимо ушей пускала любые беседы старших. У них были свои «дила» да «справы», у нас, детворы, свои.
Впрочем, иногда на слух тревожно ложились фразы о ценах, болезнях, о том, что «у соседки муж пьет, а у нас дед, та и у Любы…» Обычная жизнь, что в ней интересного? Теперь эта жизнь — предмет моей «прохвессии».
Бабушка — Лешке:
— Так у тебя троек нету?
— Не, баушка, — юля глазами, выдергивает он голову из-под ее руки.
— Вчысь, деточка, вчыться треба гарно…
Учиться надо, ясный пень. Надо учиться. Удивительно, как веско умеют пожилые люди говорить заведомые банальности. Как-то так говорят их, что глянешь в эти выцветшие глаза, скосишь взгляд на черные от земного труда руки, и тихо согласишься: «Надо…» Но как же порой неохота!
В речи моей «подкиевской» родни причудливо и лихо соединяются украинские и русские слова. Диву даешься, как мы вообще понимаем друг друга. Впрочем, ведь и москвичи напрасно уверены в исключительной правильности своей речи. И я была уверена. Пока случай не заставил услышать себя со стороны.
Наша дорожная поклажа тяжела, словно поклажа верблюдов. Казалось бы, что нам с Лешкой нужно взять с собой деревню? Карман с мелкими деньгами — ничего больше! Но мало-помалу набралось с полтонны разного скарба. Родня ждет московского гостинца, и хочется всех порадовать.
— Может, машину поймаем? — Закинул удочку Лешка. Хорошо закинул, со свистом. Клюнуло. Гулять, так гулять…
— Такси? — Телепатически возник ниоткуда владетель автомобиля — низенький, аккуратный старичок.
— Сколько? — Вонзили мы в него испуганные взгляды.
— Девять гривен, — не менее испуганно произнес он.
— Пять! — Отрубили с угрозой.
— Восемь, — как бы оправдываясь, ответствовал возница.
— Шесть. — Возопили мои мелкособственнические инстинкты.
— Семь, — прошептал извозчик, закрывая глаза.
— Йохо! — Победно вырвалось у Алешки. — Поехали!
Я подосадовала: можно было скостить и до пяти, если б не этот Алешка.
Машина была припаркована неподалеку, и мы, сжав зубья, ухватили багаж. Впереди мельтешил водитель, предупредительно огибая прохожих с искусством хорошего штурмана. Впрочем, старичок ухватил самую увесистую сумку и нисколько не затруднился этим обстоятельством.
И вот мы предстали перед машиной времени. Давнего времени. Перед нами, вростая колесами в асфальт, стоял заматерелый железный монстр-мутант, покрытый чешуей окаменевшей грязи. Когда-то, юным автомобильчиком, не нюхавшим жизни и старого масла, он имел синий окрас.
— Марка «Жигуль», — заметив мой естествоиспытательский интерес, не без гордости отрекоммендовал скакуна владелец, — таран, а не машина.
В утробе этого постиндустриального чудовища мы летели по Киевским улицам. Под колесами шепелявила брусчатка.
— Красивый город! — Для затравки выкрикиваю сквозь всхлипы мотора.
— Еще бы, — незамедлительно отзывается рулевой, — дуже красивый город. А вы здесь первый раз?
— Каждый год…
— С Москвы?
— Как угадали?
— Дак у вас же акцент…
И дед со знанием дела разложил всю фонетику и семантику московской речи. С ее насилием над «а», «о», «г», не говоря уже об ударениях.
— Ну, вообще-то мы не совсем москвичи, — пошла я почему-то на попятный. — Мы родом с Дальнего Востока. И наполовину сибиряки с братом. А на остальную половину — украинцы.
— Ах, девушка, украинцем нельзя быть наполовину. — Опять прищучил водитель.
— Да вы часом не из УНА-УНСО?
— Зачем же УНА? — Обиделся наш киянин. — Вовсе нет. Просто я украинец! До седьмого колену. Только не тот, шо на митингах шумит. Как думаешь, дочка, Тарас Бульба ходил бы на митинги?
— Думаю, нет.
— Вот и я так думаю.
Далее реинкарнация Тараса Бульбы заговорила почему-то о своем сыне, судя по всему, чуть ли не об Андрийке.
— Учиться не хочет, только «телик» ему подавай. Да этот ваш… «видик». Или «видак», а? «Видик» — раньше употреблялось в значении «вид». Например, вот из окна машины — недурной видик. А вам такое скажешь, разве поймете? Вот и мой хлопець. «Тусовки» ваши всякие. Ну, конечно, плюс деньги на карманные расходы. Куды вы их тратите, на шо? Ох, как своим-то родичам в копеечку влетаете — будьте уверены. Или как вы там у себя в Москве их зовете, «предки»?
— Почему «предки»? Родители…
— О, — иронично оборачивается обличитель, — «Я у своего родителя десятку стрельнул» — так, что ли, это звучит?.. А вот есть у вас новое слово. Как его… «Догнаться». Может, вы мне его растолкуете? Мой не хочет. Ты, говорит, папаша, тоже своим предкам кой-чего не договаривал.
— А не сказали вы ему: «А ну, повернись, сынку. Экий смешной ты…»