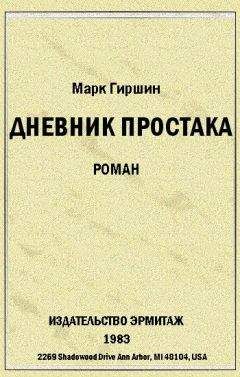Недалеко от гостиницы стоят небоскребы. Фонтаны журчат, трава, прохладно. Я иногда сажусь на скамейку, не могу понять, каким ветром меня в Америку занесло. Но настроение хорошее, потому что эти небоскребы ни на что не похожи, они красивее всего, что я до сих пор видел.
Августа 26-е
Несколько дней ничего не записывал, а сейчас опять появилась настроение. Сначала, как я был у критика. Я называю его критиком, такая его роль со мной, но он журналист, кажется, известный, если судить, как меня встретили в газете. Предупредительно. Не сравнить с «Новой Речью».
Вернулся в гостиницу весь мокрый, так на улице жарко. Сидел в вестибюле. Здесь прохладнее и не так скучно, как в номере: кто входит, кто выходит, а за стеклянной дверью видна улица. И уютно. Ковры, мягкая мебель, тёмно-красные обитые дубом стены, и на них яркие электрические пятна бра. Можно утонуть в глубоком кресле, положив на колени толстую американскую газету, которую купил в напрасной надежде узнать, что делается в мире, и вообразить, что ты такой же, как те, кто снует по улице за дверью, живешь в этой стране испокон века и просто зашел в гостиницу повидать приятеля, с которым когда-то учился в одной школе. Но стоит увидеть непонятную вывеску на другой стороне улицы или вспомнить, что надо возвращаться в свой темный номер, и тот кто-то из милости за тебя оплачивает, и настроение меняется.
Августа 27-е
Утром, когда я кипятил в кастрюле чай, Вова пришел за мной. Немножко странно, что такой солидный мужчина велит ему говорить «ты», но он уверяет, что здесь так принято. Принято, так принято. Я все ж таки иногда говорю ему «вы», как-то не получается иначе. Я налил в кружку чай, решил, пока остынет, я успею вернуться.
Вова с Люсей хотели узнать побольше о критике. Но я ничего особенного не мог рассказать, я всего у критика был, может быть, минут пять. Он только спросил, из какого я города, заглянул внутрь папки с рассказами и положил ее на стол. Мне понравилось, что у него в кабинете все такое большое и добротное, и сам он высокий, как шпиль. И мало говорит. Поинтересовался, правда, какая у меня была работа в Союзе, после чего записал мой адрес и обещал прислать в гостиницу ответ через две недели. Попрощался со мной и все. Вовы были разочарованы. Может быть, желая меня утешить, Люся сказала, что я пришел отдать рассказы, о чем тут особенно говорить. Все еще впереди. Как вы печатаете на машинке, она спросила, двумя пальцами или всеми? Я печатал двумя, но быстро, в издательстве научился. А я думала, что двумя нельзя быстро, вы нам покажете. И поможете выбрать машинку? Я, конечно, согласился и спросил, что они собираются печатать. Они переглянулись и вперебой стали мне объяснять, книгу, большую толстую книгу, она уже написана, это соцгеоисследование, ведь Вова еще в Союзе защитил кандидатскую, должен был получить должность доцента, но ему не дали, да и защищаться пришлось на периферии, не хотели допускать к защите… Старичок, это долго рассказывать, перебил Люсю Вова, как там к евреям относятся, ты сам знаешь, пришлось устроиться в непрофилирующий НИИ, материально жил, как все, была машина, построил две кооперативных квартиры, но душно, нечем дышать, все бросил… Вова, посмотри, сколько времени, мы не успеем купить машинку, спохватилась Люся. Я не знал, что такое соцгеоисследование, но не хотелось спрашивать, чтобы они не переменили ко мне отношение и не перестали приглашать меня. И я повел их к Гану. Ган усадил нас у своего стола, в груде разноцветных квитанций, счетов и разных документов расчистил себе какой-то пятачок возле телефона и стал искать по картотеке, на каком стеллаже у него должна стоять подходящая машинка. Ничего не нашел и позвал рабочего. Тот сразу принес машинку. Но в ней не оказалось твердого знака. Вовы отказались от этой машинки, и рабочий принес другие. Ни одна из них Вовам не подошла. Тогда Ган стал уверять, в Америке русские обходятся без твердого знака, ставят апостроф. Выдумывал, чтобы купили.
Ночью Ган позвонил, завтра я должен угостить его в самом дорогом ресторане, такую он нашел для меня работу. После этого принялся жаловаться, рабочий его обкрадывает, когда Ган приезжает на работу, он почти уверен, то на одном стеллаже, то на другом не хватает машинки, которые, он это отчетливо помнит, стояли там накануне вечером. Я спросил, кто же и когда совершает кражи, если Ган сам открывает и закрывает магазин. Как, вы еще ничего не поняли, сердито закричал Ган, ведь рабочий в субботу приходит рано утром, я ему оставляю ключ. Я помолчал из вежливости, а потом спросил, какую же работу он для меня нашел. Как, вы опять ничего не поняли, я вам битый час объясняю! Наблюдать, выносит ли рабочий машинку из магазина и, если нужно, позвонить мне. Вот вся работа, и за нее такие сумасшедшие деньги. Сколько, так и не сказал.
Я считал, что если несколько машинок рабочий возьмет себе, то ничего страшного не случится, все равно они у Гана стоят годами без дела и только пылятся. Но конечно, я ему этого не сказал, а объяснил, что начинаю ходить на курсы английского. Но он не закончил на этом разговор и предложил познакомить меня еще с одной эмигранткой, учительницей. Не успел я сказать, не надо, он признался, что уже дал ей мой телефон, поскольку был уверен, я буду его потом благодарить.
Сентября 1-го
Сегодня первый раз пошел на курсы и убедился, что с английским у меня хуже, чем у многих. Наши эмигранты уже обамериканились: разрисованные рубашки, нестриженые волосы до плеч, девушки в шортах, много косметики. И все время или курят, или что-то едят из пакетиков, а потом бегают к автоматам пить, так их мучает жажда. А в промежутках жуют жвачку. Рита доказывала: никакая не пошлость, Алик, здесь каждый может позволить себе, что хочет. А что в Союзе хорошего? Я не могла устроить свою жизнь, потому что у меня не было телефона! Мне вдруг стало смешно, а Рита обиделась. Что ты смеешься, что ты смеешься, кричала она, да, а что ты думаешь, это не имеет значения? Я сделал серьезное лицо и сказал, что ведь она замужем. Рита вдруг страшно покраснела, смутилась, а потом опять закричала: да, а зато сколько я ждала! Это ничего не значит, по-твоему?
Вечером поднялся к Вовам. Меня познакомили с гостьей, старой эмигранткой. Она смешно говорила по-русски. Потом гостья куда-то увезла Вов.
Когда я вернулся в свой номер и начал это записывать, мне позвонила учительница, о которой накануне говорил Ган. У нее был приятный голос, я решил, она молодая. Но после этого она сказала, что забыла много русских слов, потому что родители привезли ее сюда еще ребенком почти полвека назад, Тогда я сказал, что уже занимаюсь на курсах. Вы все равно могли бы ко мне прийти, мне бы очень хотелось поговорить с кем-нибудь по-русски. На меня подействовали эти слова, и я согласился.
Сентября 2-е
Ничего нового. Курсы. Жара. Вечером ходил по городу. Случайно зашел в магазинчик, торгующий сексуальными журналами. Грязная конура. Стены в каких-то подтеках. Толпа мужчин. И все разглядывают журналы. Какая-то неприятная тишина. Здесь же можно посмотреть сексуальный фильм. Всего 25 центов. Решил позвонить той женщине, которая дала мне свой телефон в ОМО.
Сентября 3-е
Утром позвонил. Она не удивилась моему звонку, сказала, в понедельник должна быть с сыном в Манхэттене, и там с удовольствием поговорит со мной. Глупо, что не позвонил ей раньше. Видно, она ждала.
У Вов все время родственники, американцы. Я вечером поднялся к ним, они с какой-то пожилой четой сидят за столом. У четы пальцы в перстнях и кольцах. Я извинился, пришел, мол, за книгой. Провожая, Люся шепнула мне, что это вовина тетка. Люся очень нарядно одета, от нее пахнет тонкими духами, А в комнате обычный кавардак. Почему старые эмигранты так пестро одеваются?
Тогда решил пойти к Рите, она обижается, что я забыл ее. Я ей позвонил, она закричала, она только что звонила мне, где я пропадаю? Наверное в то время я был у Вов. Но она не поверила: у тебя кто-то есть! Я сказал, что никого. Ну, тогда приходи. И если есть бананы, захвати, я люблю. Мы сидели весь вечер, разговаривали. У нее очень маленькие розовые ступни, наверное, 33-й размер, как у ребенка. Она сказала, что ждет звонка от мужа из Канады. Как всегда, удерживала меня, когда я хотел уйти, ей было тоскливо одной ждать звонка. Но звонка все не было, и я ушел.
Спустился вниз и стоял на улице у входа в гостиницу. Было уже поздно. Машины почти не проезжали. Пешеходов один-два на всю улицу. Несмотря на высокие дома, ощущение какой-то глуши. Только рев сирен полицейских или пожарных машин напоминает, где ты. И машин скорой помощи. Я вернулся в вестибюль и утонул в глубоком кресле. Дежурный дремал за стойкой. Было не так прохладно, как днем, когда на полную мощность включены кондишены. Днем здесь как в холодильнике, чтоб приезжие думали, что в комнатах такая же температура. А там баня. Но все равно было приятно, вестибюль еще не успел нагреться. И потому что свет был потушен, только место дежурного ярко освещено. Не говоря уже о жаре, в номере скучно, а здесь ты на людях, видишь, как они входят, выходят и что делается на улице за стеклянной дверью, И никто на тебя не обращает внимания, потому что кресло в углу вестибюля, в закутке, там всегда полумрак, даже когда горят все светильники. Даже дежурный тебя не видит.