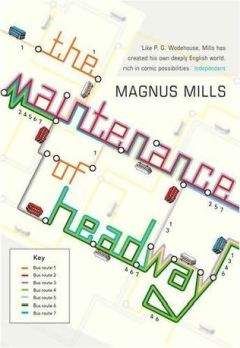Наверное, сидя за семейным столом во время ужина, между закуской и вторым блюдом, уменьшив громкость звука в телевизоре, Джессика и Жером, слегка оглушенные и явно потерявшие аппетит, расскажут, как они вошли в зал крематория. Оттуда им был виден стоявший в соседнем помещении гроб, где лежал их одноклассник Клеман. Мальчик, скончавшийся при столь же ужасных, сколь и глупых обстоятельствах. Родители в какие-то секунды попытаются постигнуть глубину драмы, не забыв возблагодарить Господа или Провидение за избавление их от подобного кошмара. Убирая со стола, они сочувственно будут качать головой, смутно осознавая хрупкость всего сущего и тех, кого мы любим больше всего на свете. А потом отвлекутся, задумаются о другом, усилят громкость телевизора, сменят тему разговора, встанут из-за стола, чтобы сходить за следующим блюдом, или заговорят о помидорах, которые летом лучше, чем зимой. «Ну же, скушай что-нибудь, не думай больше об этом, такова жизнь, не ляжешь же ты спать на пустой желудок».
Когда я искал, где скрыться от всех этих людей, присутствие которых лишь усиливало мое смятение, не зная, куда спрятать свои глаза и воображение, зажатый с одной стороны углом гроба в соседней комнате и враждебными рыданиями Элен — с другой; когда я думал: «Мама умерла, Клеман умер, Анна жива, но так далеко от Франции, есть ли теперь на земле хоть один человек, ради кого мне жить?» — в этот самый миг кто-то произнес мое имя и, протянув мне руку, представился:
— Жан-Мишель Гарсия. Из Автономного управления парижского транспорта. Позавчера мы с вами говорили по телефону.
Название этого учреждения, «Автономное управление парижского транспорта», никогда больше не будет звучать для меня как раньше. Отныне для меня оно будет связано не с обычным гигантским административным спрутом с километрами рельсов-щупальцев, а с предательством столь же чудовищным, сколь и бездушным и окончательным. И одновременно с предательством тысяч потребителей, которые продолжают ежедневно отдаваться этому убаюкивающему укачиванию старого железа и неоновых огней, не представляя себе мгновения, которое для меня, загнанного жизнью в угол, всегда будет ассоциироваться с несчастьем.
— Я записал, что вы отказываетесь воспользоваться предложенной нами психологической помощью. Это ваше законное право, не буду настаивать, — деликатно продолжал подошедший, а мои глаза вновь шарили в поисках лакированного угла гроба, где уже три дня покоился Клеман. Безликого изделия из светлого дерева с такими нелепыми, тщательно отделанными оловянными ручками. Однако этот не имеющий истории продукт деревообрабатывающей промышленности, смешавшись с пеплом, будет сопровождать Клемана гораздо дольше, чем те двенадцать лет жизни моего ребенка, когда я, его собственный отец, был с ним.
— Но мы подумали, — не отставал человек, который, по мере того как мои глаза замирали на краешке гроба, терял самообладание, — но мы подумали, — продолжал он с неловкой кротостью, протягивая мне что-то в руке, — что, возможно, вам будет легче, если вы встретитесь с этими людьми. Это двое свидетелей несчастного случая, которые, не задумываясь, предложили быть в вашем распоряжении, если вы захотите с ними встретиться. Возьмите, здесь записаны их телефоны и имена, — закончил он, вырывая меня из тупого созерцания угла гроба.
А я, бормоча бездушное «спасибо», уже хватал конверт с логотипом, который он протягивал мне, на мгновение оторвав взгляд от этого гроба, подходить к которому ближе, чтобы рассмотреть и узнать, что там покоится худо-бедно подреставрированное бальзамировщиками из похоронного бюро лицо Клемана, отныне не имеющего возраста, у меня не было необходимости. Гримерам удалось стереть остатки запекшейся крови, вправить вылезшие из орбит глаза и каким-то чудом убрать общее выражение застывшего ужаса, которое я увидел при опознании тела, когда Клеман еще не был подлатан полицейской медицинской службой. Через несколько минут все пройдут в соседнее помещение, где гроб со всем своим содержимым готовится к отправке в печь. В это лицо я вглядываюсь в последний раз, пока его еще не стали лизать языки пламени, и не могу прочесть на нем ничего, кроме двенадцати лет, таких обещающих и таких бесполезных. Двенадцати лет жизни человеческого существа, которой было предначертано столь грубо прерваться, чтобы я понял, что она придавала смысл моей собственной жизни. Никаких иных следов прожитых живой плотью двенадцати лет, кроме свинцовых век и мраморной белизны.
— Алло, это я. — Каролина позвонила мне после шести, в голосе смущенная торопливость. — Уже началось? Нет, черт возьми! Неужели это правда?! — прервала она меня, когда я сообщил, что церемония только что завершилась, все кончено, что Клемана сожгли. — Разве ты не говорил мне, что в семнадцать? — продолжала она с сомнением и укоризной.
Я представил, как она произносит это: слегка подавшись вперед, вытянув шею, медленно приглаживая рукой прядь волос за ухом. Как во время наших редких споров, скорее, наших объяснений, когда я упрекал ее в эгоизме, чего она в любом случае никак не могла изменить. Редкие и очень сдержанные семейные сцены. Мы никогда не разговаривали на повышенных тонах; не потому, что хорошо понимали друг друга и нам ни к чему было кричать или оскорблять, ни-ни. Напротив, мы были такими разными, в глубине души такими чужими, что было бы совершенно бесполезно раздражаться.
— О боже! Не может быть! Только что поняла! — Она разволновалась у телефона. А я подумал, что как это ни парадоксально, но теперь, когда Клеман умер, я нахожу абсолютно естественным свое желание положить конец этому убогому союзу, в котором даже сексом занимаются на основе недопонимания: я, сдерживая свои порывы, чтобы своим желанием, уже не льстившим ей, не доставить ей неудобства, а она — заставляя себя иногда отдаться мне, чтобы тоже не слишком обижать. И это двадцативосьмилетняя особа, которая всего три года назад выглядела желанной и чувственной самкой, что не преминула продемонстрировать, чтобы заставить меня бросить Летицию. — Поняла, — расточала она вздохи на том конце провода, — это из-за разницы во времени! Я совершенно забыла, что в Лондоне на час меньше!
Парадоксально, но теперь, когда Клеману уже не придется терпеть присутствие Каролины в доме, я нахожу смелость расстаться с ней.
Я всегда осознавал сдержанность Клемана по отношению к Каролине, которая платила ему едва скрываемой ревностью и раздражением честолюбивой и капризной красивой молодой женщины. Нечто подобное мы с Анной испытывали в детстве по отношению ко всем этим Шанталь, Сильви, Лоранс и прочим Мари-Доминикам моего отца, которые терпеть не могли сам факт его отцовства. Как и я в его возрасте своему собственному отцу, Клеман, такой застенчивый, чувствительный и тактичный, несмотря на рэп и спущенные ниже трусов мешковатые джинсы, никогда не смел ничего высказать мне. Клеман не смел ни жаловаться, ни просто дуться. А ведь мне совсем нетрудно было угадать его желание не то чтобы видеть своих родителей снова вместе, но чтобы я немного больше принадлежал ему одному; чтобы ему позволялось не так часто участвовать в обеде или беседе с Каролиной и не проводить с ней выходные и каникулы. Я же трусливо, точно так же как мой отец тридцать лет тому назад, делал вид, что не понимаю этого желания. Настолько не способен я был, в точности как мой отец, взять на себя смелость сказать женщине «нет», чтобы соответствовать глубинным и невысказанным желаниям собственного ребенка.
— Ай-ай-ай, как мне жаль, мне стыдно. Ты не очень на меня сердишься? — Она продолжала ныть в мобильник. А я не мог простить себе, что предал Клемана ради капризной инфантильной тетки, которую надо было постоянно утешать, поднимать ей настроение после истерических телефонных разговоров с матерью и которая после трех лет общей постели никогда не соглашалась на ласки языком. — Представляешь, я хотела позвонить тебе сегодня утром во время семинара, но это оказалось нереально. Никакой возможности найти хоть пять минут, чтобы уединиться, ты ведь знаешь этих англичан, они с работой не шутят, — настойчиво продолжала она, несмотря на мое молчание. — Кстати, за эти пять дней мы с Алэном совершенно выдохлись, — рискнула она добавить после продуманной паузы, разумеется рассудив, что достаточно посочувствовала. Правда, забыла, что пятью днями раньше, как раз когда она радостно мчалась в Лондон, утянутая в костюм подмастерья хозяина мира, моя жизнь рушилась, а она, прибыв в Лондон, узнав новость и представив себе, что надо возвращаться, протянула: «Понимаешь, мы с Алэном готовили этот семинар полгода».
— Мы с Алэном совершенно вымотались, — ввернула она с притворным равнодушием, даже не догадываясь, что, несмотря на мое постоянство по отношению к ней, несмотря на мою доступность, всегдашнюю готовность исполнить любой ее каприз, я прекрасно понял, что оный Алэн некоторое время назад из товарища по службе превратился в нечто большее. Еще бы! На десять лет моложе меня, на десять сантиметров выше и на двадцать килограмм больше мышц. Плюс его вылазки в Чили, спортивная туалетная вода и юмор пока еще молодого будущего хозяина мира. Правда, видимо, он проявил недостаточную чуткость к серьезным приступам хандры и небольшим перепадам настроения, чтобы Каролина окончательно бросила меня.