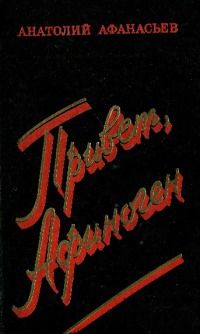А мне, честно говоря, всегда хотелось верить в телепатию. Меня не смущает, что от телепатии легко протянуть ниточку к переселению душ, маразматическим домовым и прочим утешительным, забавным вещам. Что тут плохого? В основе телепатии таится причудливое переплетение мудрой надежды на существование непознанных могучих сил души и детской веры в не– скончаемость человеческого «я». Вот ведь в чем штука.
Наверное, я говорю не совсем понятно, это оттого, что сам смутно понимаю вопрос. Понимал бы, не о чем было бы толковать. Дважды два четыре – тут ни прибавишь, ни убавишь. Философы всех времен как раз и рассуждали много о вещах, где не было полной ясности и можно было повернуть дело и так и этак. Тем, собственно, и пробавлялись. И были правы. Человек так уж устроен, что спорит, машет руками до тех пор, пока не наткнется случайно на точную истину. Тут он сразу замолкает, как пораженный громом. Знающий человек робок и застенчив.
Мне рассказывали, как умирал один мудрец, потративший жизнь на доказательства чего–то, так и оставшегося непонятным ему одному. Вокруг его постели, осененной злой болезнью, собрались удрученные родственники и ученики, ждали последних откровений и заветов.
Мудрец нашел в себе силы попрощаться. Он посоветовал любимому внуку надевать зимой шерстяные подштанники, чтобы не застудить почки, а также велел сыну не валять дурака и вложить накопленные деньги в кооператив. С тем, улыбаясь, и отбыл. Истинный мудрец. И так печально похожий на большинство из нас.
Наоборот, дурашливый человек остается самим собой до конца и у вечного предела продолжает пускать пузыри, рассчитывая что–то кому–то растолковать иуре– зонить противников. Суть прогресса в расширении круга незнания, а отнюдь не в том, чтобы поставить все точки над «и».
Заседания телепатического кружка в Федулинске проходили однообразно и не имели никакой особой цели. У кого–нибудь на квартире распивали вечером бу– тылочку–другую винца – обычно сухого и красного, – его предпочитал Никоненко, – вяло болтали о том, о сем, перемывали косточки рутинерам и консерваторам от науки, коих знали поименно. Ядовито обсуждали какой–нибудь очередной журнальный или газетный выпад против парапсихологии. Поговаривали о необходимости надежных связей, доказывали собственный несуществующий приоритет. В общем, мало чем отличались от любого другого кружка молодых ученых.
При мне обязательно заходила речь о литературе; Добрым словом поминали Эдгара По, Гоголя, Достоевского и многих других. Из современных высоко котировались фантасты: Бредбери, Азимов, Ефремов, Стругацкие. Милые ребятки с невинной алчностью неофитов на свой лад перетолковывали самые исследованные сюжеты, а уж там, где имелась возможность передернуть* передергивали не задумываясь.
– Если ты писатель, – с горечью замечал Сергей Никоненко, – постарайся понять, когда я тебе говорю… Возьми Гоголя, его «Вий». Помнишь, там Хома очерчивает вокруг себя магический круг, через который ведьмы проскочить не могут. Сказка, вымысел? Нет, дорогой, все сложнее. Николай Васильевич передал аллегорически народное мудрое восприятие телепатических идей, заложенных еще в библии, в религии, в любой, кстати, религии. У тех же буддистов многие постулаты основаны на вере в материализацию духовных сил человека… Хома взглядом, воображением создает вокруг себя стену, прочнее чем из металла… В народных сказках сплошь и рядом человек внутренним уси: лием оживляет мертвую природу, заставляет расцве: тать цветы, усмиряет диких зверей. Создает особого свойства силовые поля, которые, естественно, в сказках имеют иные названия… Если угодно, я скажу прямо. Коллективная интуиция человеческого биологического вида дала ряд блистательных научных идей в этом направлении, но идей чувственных, зашифрованных, воплощенных в языческие образы… Постарайся понять, когда я тебе говорю. Народ не ошибается, потому что не торопится. Народ вынашивает яйцо идеи 1 веками, доводя ее в своем сознании до стадии аксиомы, а потом зачехляет эту идею в игровую сказочную форму.
Эх вы, золотушные догматики–формалисты. Вам бы все тешиться системами доказательств, а давно настала пора прислушаться к своему подсознанию. Боязнь ошибок, страх быть смешным и даром потерять драгоценное время ослепляет вашего брата, ученого сухаря. Ему удобнее и легче выкопать норку в огромной горе научных знаний, возведенной веками до него, и представляется чуть ли не уголовно наказуемой мысль отойти в сторону и начать наслаивать новый свежий бугорок. Любая система конечна, волшебный мир души – безграничен… Парапсихология открывает лазейку в безграничность перспективы. А? Что? Нет, ты постарайся понять, когда я тебе говорю.
Клавдия Петровна в споры не встревала, сидела смирно в уголке и зыркала темными цыганскими глазищами, кокетничала. Стакан ее всегда оказывался пуст. Несколько раз за вечер, я замечал, она с жеманной гримасой подставляла посудину под алую струю, но момента исчезновения напитка не уловил ни разу. Клавдия Петровна не пьянела, не краснела, никак не менялась, но стакан за стаканом исчезал в ней с неукоснительностью смены дня и ночи. Хотя нет, вру. В зависимости от количества выпитого вина она все более сосредоточивалась взглядом на одном Сергее Никоненко.
– Ну–ка, Клаша, милая!.. – кивал он ей наконец. Зажигали обычную толстую свечку и погружались в благоговейное молчание. Клавдия Петровна, рассеянно улыбаясь, встряхивала рукавами широкой блузки и начинала постепенно суживать глаза, что–то пришептывая. В какое–то мгновение из ее глаз на пламя, казалось, высверкивало узкое лезвие, подобное сфокусированному лучу фонарика. Огонь свечи испуганно отрывался от фитиля, зависал в воздухе и… гас, Сергей вскакивал и с почтительным поклоном целовал руку уникальной цыганке.
– Налей глоточек, Сереженька! – утомленно и расслабленно выстанывала Клавдия Петровна, рукавом картинно омахивая запотевшее лицо.
– Как вы это делаете? – спросил я у кудесницы.
– Не знаю, – ответила она, придерживая большим пальцем таинственно опорожненный стакан. – Не знаю, дорогой. Сама не знаю.
– Она не знает, – подтвердил Сергей. – Так же, как голубь не знает, почему он летает, а рыба не думает об устройстве своих жабр… Но мы скоро взлома: ем эту дверь! Ты постарайся понять, когда я тебе говорю…
В столовой Афиноген взял себе окрошку, шницель, салат, компот – все это поставил на мокрый, липкий поднос и понес по залу. Свободных мест не было. Столовая № 3 примыкала к городскому рынку и была пристанищем торговых людей. Около пустой вешалки старушка продавала соленые огурчики поштучно. Огурчики ей передавала в десятилитровой стеклянной таре буфетчица, бывшая скорее всего с ней в доле. Торговля огурчиками, помятыми, похожими одинаково на блины и кильку, шла бойко, потому что мужчины заходили в столовую не только за тем, чтобы поесть, чаще вообще не за этим, а за тем, чтобы в культурной обстановке пропустить стаканчик–другой. Стаканы тоже отпускала буфетчица из рук в руки, оговаривая право на бесплатный прием бутылок. Она была настолько увлечена огурцами и стаканами, что желающие просто купить бутылку воды или пачку сигарет успели образовать очередь до дверей.
«День сегодня никогда не кончится, – думал Афиноген. – Слишком жарко, все растает».
В тарелки на подносе он старался не заглядывать, хотя уже заметил, что в окрошке плавает пожухлая веточка сирени, а у шницелевой вермишели края засохли и пожелтели, как заусеницы на ногтях.
Наконец он высмотрел свободный стул и подсел к трем юношам с раскрасневшимися лицами. Тут пир шел горой, и давно. Ребятки были в той стадии мироощущения, когда бутылки уже не прячут под стол.
Витийствовал худой детина в батнике.
– Нинка – тьфу! Мне с ней детей не крестить. Мне ее подружку желательно занавесить. Это, старики, мечта кабальеро. Походка, манеры, ноги – все при ней. Но с норовом! Я ей – и так, и по–другому. Никак. Купил, старики, брошку. Не постоял за ценой, – на, гадина, получи подарок… Старики! Не взяла. Я толк в женщинах знаю, эта – особенная. Круглая, как мяч, бедра, старики, ужас. Стоит, а бедра вибрируют. Взгляд – сдохнуть. Но – ни в какую. Брошку не взяла, морду воротит. Ах, думаю, давай напрямки. Говорю ей: мне на Нинку – тьфу! – хочу переиграть этот пасьянс. Согласна? Молчит, старики. Никак не притиснешься. Что делать, пацаны?
Приятели с упоением внимали трогательной истории и поэтому не сразу заметили Афиногена. Главным у акселератов был не тот, который рассказывал, а тот, который грудью налег на стол, на раздавленные огурцы. Он был постарше, посолиднее остальных, с татуировкой на кисти (вечный якорек с недоколотыми буквами) и с достоинством бегемота руководил разливом дешевого вермута.
– Выпьешь? – обернулся он вдруг к Афиногену.