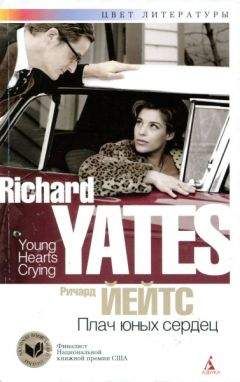— Так, — начала она. — Я сидела сегодня на работе, — а вы знаете, что офис у меня на сороковом этаже, — и вдруг подняла глаза от пишущей машинки и увидела, что на уступе за окном примостился крупный седобородый старик в забавном красном костюме. Я подбежала к окну, распахнула его и спрашиваю: «С вами все в порядке?» — а это, оказывается, Санта-Клаус, и он мне говорит: «Конечно, со мной все в порядке, к высоте мне не привыкать. Но послушайте, мисс, не подскажете ли, как мне найти дом семьдесят пять по Бедфорд-стрит?»
И она продолжала в том же духе, но, судя по всему, догадалась по нашим смущенным взглядам, что мы прекрасно понимаем, что до нас соизволили снизойти, и, как только ей представился повод, она без промедлений закончила историю. Затем, выдержав глубокомысленную паузу, она начата новую, на этот раз гораздо лучше.
— Дети, вы слышали когда-нибудь, что было в первое Рождество, когда родился Христос? — спросила она. И начала рассказывать. Говорила она негромко, с драматизмом в голосе, — наверное, она надеялась, что именно таким голосом на радио будут читать ее более серьезные пьесы.
— А до Вифлеема было еще идти и идти, — говорила она. — Спустилась холодная ночь. Мария знала, что скоро у нее родится ребенок. А еще она знала, что ее ребенок, быть может, однажды станет спасителем рода человеческого — ей об этом рассказал ангел. Но сама-то она была всего лишь юной девушкой, — в этом месте глаза у Слоан заблестели и будто бы даже наполнились слезами, — и дорога утомила ее. От тряской езды на осле появились ушибы и синяки, все тело болело, и она уже думала, что они никогда не доедут. Она только и могла, что пожаловаться: «Ах, Иосиф, я так устала!»
Дальше рассказывалось, как их не пустили на постоялый двор, про рождение в хлеве, про ясли, про животных, про то, как пришли волхвы; когда история закончилась, мы долго хлопали, потому что Слоан очень хорошо рассказала.
— Папа, спой нам, пожалуйста, — попросила Эдит.
— Спасибо, радость моя, — ответил отец, — только я не смогу, без пианино я не умею. Но мне очень приятно, что ты попросила.
Последним, кто выступал в тот вечер, был Барт Кампен, которому под давлением общественности пришлось сходить домой и принести скрипку. Никто не удивился, когда выяснилось, что играет он профессионально, ничуть не хуже, чем передают обычно по радио; приятно было наблюдать, как его нахмуренное худое лицо склоняется над подбородником, не выражая никаких эмоций, кроме заботы о чистоте звука. Мы гордились им.
Отец ушел, но подтягивалось много других взрослых, в основном мне незнакомых; похоже, в эту ночь они уже успели побывать на нескольких других вечеринках. Наступила уже поздняя ночь или, скорее, раннее рождественское утро, когда я заглянул на кухню и увидел там Слоан, стоявшую с незнакомым мне лысым мужчиной. В одной руке у него подрагивал бокал, другой он медленно гладил ее по плечу; мне показалось, что она пытается отстраниться от него, прижавшись к старому деревянному леднику. У Слоан была особая манера улыбаться: она осматривала тебя с ног до головы, пуская струйки дыма между почти сомкнутыми губами, — именно этим она сейчас и занималась. Потом мужчина поставил свой бокал на крышку ледника и обнял ее, и я больше не видел ее лица.
Другой мужчина в измятом коричневом костюме валялся без сознания на полу в столовой. Я обошел вокруг него и направился в студию, где взахлеб рыдала молодая красивая женщина и сразу трое мужчин толкались вокруг, пытаясь ее успокоить. Потом я заметил, что одним из этих мужчин был Барт, и стал наблюдать за ним: он оказался терпеливее двух других. Он повел девушку к двери и обнял ее, а она положила голову ему на плечо. Так они и ушли.
Эдит в своем помятом праздничном платье казалась изможденной. Она устроилась в нашем старом мягком кресле, привезенном еще из Гастингса-на-Гудзоне, запрокинув голову на спинку и положив ноги на подлокотники. Джон сидел по-турецки на полу рядом с ее висящей ногой. Казалось, разговор, который они вели, их обоих не слишком интересовал — он иссяк, как только я сел рядом с ними на пол.
— Билли, — сказала она, — ты знаешь, сколько времени?
— А разница? — откликнулся я.
— Ты уже сто лет как должен быть в постели. Давай пойдем наверх.
— Не хочется.
— Ладно, я все равно пойду, — сказала она и, с трудом выбравшись из кресла, исчезла в толпе.
Джон повернулся ко мне и неприятно прищурился.
— Знаешь, что? — проговорил он. — Когда она сидела вот так в кресле, мне все было видно.
— Что?
— Все было видно. Щель. И волосы. У нее появляются волосы.
Я не раз наблюдал все эти признаки у своей сестры — когда она лежала в ванной или когда переодевалась, поэтому ничего удивительного в них не находил; но я сразу понял, сколько они должны были значить для него. Ему стоило только стыдливо улыбнуться — и мы бы рассмеялись, как простые парни, сошедшие со страниц журнала «Дорогу ребятам», — но у него на лице застыло это презрительное выражение.
— Я смотрел и смотрел, — проговорил он. — Нужно было поддерживать разговор, чтобы она ничего не поняла, и я прекрасно справлялся, но тут пришел ты и все испортил.
Что мне следовало сделать? Извиниться? Извинения я счел неуместными. Впрочем, все остальное тоже казалось неуместным. Мне ничего не оставалось, кроме как уставиться в пол.
Когда я в конце концов добрался до кровати, у меня почти не было времени прислушаться к ускользающему шуму города (я стал прибегать к этому способу, чтобы отвлечься от посторонних мыслей), потому что в комнату неуверенным шагом вошла мама. Она выпила лишнего и захотела прилечь, но вместо того, чтобы пойти к себе в комнату, она легла со мной.
— Ох, — вздохнула она, — Мальчик мой. Мой мальчик.
Кроватка была узкая, ей явно не хватало места; вдруг она скривилась, вскочила на ноги и побежала в ванную; я слышал, как ее рвет. Передвинувшись к тому краю кровати, где она лежала, я не успел отдернуться и попал щекой в лужицу ее рвоты.
Той зимой на протяжении целого месяца или даже больше мы редко видели Слоан: она говорила, что «работает над крупной вещью, по-настоящему крупной». Когда пьеса была закончена, Слоан пришла к нам в студию. Вид у нее был усталый, но это ее только красило. Она спросила застенчиво, можно ли ей почитать вслух.
— Отличная идея, — сказала мама. — О чем пьеса?
— В этом вся соль: про нас. Про всех нас. Слушайте.
Барт к тому времени уже ушел, а Эдит была одна во дворе (она часто играла одна), так что вся публика состояла из меня и мамы. Мы сели на диван, а Слоан устроилась на высоком стуле, в той же точно позе, в какой рассказывала свою вифлеемскую историю.
«Есть в Гринвич-Виллидж один волшебный двор, — читала Слоан. — Эта узкая полоска из кирпича и зелени, затерявшаяся среди неправильных очертаний очень старых домов; а волшебная она потому, что живущие в этом дворе или рядом с ним люди сумели образовать волшебный круг друзей.
Денег у этих людей немного, кого-то из них можно даже назвать бедными, но они верят в будущее, верят друг в друга и в самих себя.
Вот Говард, некогда ведущий журналист столичного ежедневника. Все знают, что еще немного, и Говард снова взметнется к высотам журналистской профессии, а пока ум и юмор сделали его главным мудрецом двора.
Вот Барт, молодой скрипач, судьбой предназначенный к сценической карьере виртуоза-исполнителя; сейчас же, чтобы выжить, он принужден любезно принимать все приглашения на обеды и ужины.
А вот Хелен. Ее очаровательные скульптуры когда-нибудь украсят лучшие сады в Америке. Теперь же ее студия является излюбленным местом собраний нашего волшебного круга».
Дальше продолжалось в том же духе. Вводились новые персонажи, ближе к концу дело дошло и до детей. Мою сестру Слоан назвала «девчонкой-сорванцом, длинноногой и мечтательной», что показалось мне странным, потому что сам я никогда не воспринимал Эдит подобным образом, а меня представила «семилетним философом с печатью в глазах», и это было совсем уж непостижимо. Когда все персонажи были представлены, Слоан чуть помедлила для драматического эффекта и перешла к первой серии своего радиоспектакля, озаглавленной, надо полагать, «пилот».
Сюжет я понимал плохо: казалось, он сводился в основном к тому, чтобы дать каждому персонажу повод появиться у микрофона и произнести несколько слов, и вскоре я слушал уже исключительно затем, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь реплики и у моего персонажа. Оказалось, что есть — в некотором роде. Слоан объявила мое имя: «Билли», но вместо того, чтобы говорить, стала изображать на лице череду страшных судорог, сопровождавшихся забавными взрывами звука: к тому моменту, когда дело дошло до слов, меня уже не заботило, какими именно они были. Я и вправду сильно заикался (на борьбу с этим недугом ушло еще лет пять или шесть), но я не ожидал, что мое заикание будут изображать по радио.