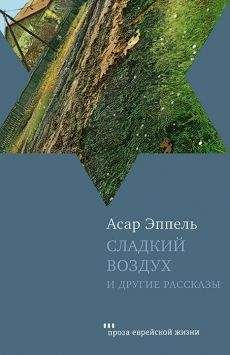Костюм бухгалтер задумал строгий, но и его тоже не надо было брать. Пассажир снабжался особыми баллончиками. На одном стояло: “Одежда дорожная”. На другом — “Галстуки и запонки”. На третьем — “Скорбный комплект” и т. п. Довольно было распылить содержимое в свою сторону и любую одежду на себе создать. Причем никакой синтетики. Только хлопок или шерсть.
Словом, все, что положено, было тщательно выполнено, и бухгалтер М. погрузился в летальную машину (игра слов в данном термине уже давно никем не улавливалась).
Баллончик “Дорожное” образовал на М. удобный тренировочный костюм с белыми полосками на штанах (чистый, конечно, хлопок), так что бухгалтеру оставалось усесться в кресло и пристегнуться (отстегиваться не дозволялось ни в коем случае).
И вот голос пилота сообщил, что они летят и что М. как хочет, но лично он, пилот, заваливается спать, потому что время на приборной доске отключать запрещено, а лететь черт-те куда, и он хочет после двух выходных отоспаться, для чего переходит на полет автоматический.
В кабине было как дома. Где-то правдоподобно капал кран, над головой шаркали тапочки, поскрипывали двери, а за стеной бубнили соседи. Даже заголосила на чьих-то “Жигулях” противоугонная система.
Всем этим фирма обеспечивала уют и приятность полета.
Через какое-то — усеченное для М. время — заспанный пилот возвестил: “Приближаемся к юдоли скорби! Быть в подобающем виде. Где переодеться, знаем”.
Бухгалтер М. ступил в туалетный отсек, и тотчас раздалось радушное: “Присаживайтесь. Туалетная бумага слева, дамские пакеты — справа. Просьба использованное аннигилировать в мусоросборнике”. Затем заиграла музыка. “Картинки с выставки” Мусоргского.
Бухгалтер М. достал с полки баллончик “Мужской траурный костюм английского покроя с темным галстуком и черными носками” и стал напылять на себя его субстанцию. Напыляясь, костюм в целях экономии веса вбирал фрагменты уже бывшего на бухгалтере тренировочного. Спустя мгновение (заменить эту земную толику времени другим словом нам пока не удается) бухгалтер М. был соответственно одет и обут.
Ступив в кабину, он от удивления даже вскрикнул. Пол и стены, явно наличествуя и представляясь надежными, стали теперь абсолютно прозрачны, а сквозь них виднелся космос. Правильнее сказать, не виднелось ничего. Космос просто наличествовал сверху, снизу, вдали и по сторонам, причем чернота его была неописуема. Она казалась даже гуще черноты английского костюма, что было уж совсем удивительно, потому что английские суконщики окрашивали ткань в черный цвет как никто.
Редкие звезды и светила окрестный мрак не освещали, и в голове бухгалтера М. сразу возникла строчка какого-то позабытого школьного стихотворения “Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень”. Но тут вспыхнули прожектора и рефлекторы летальной машины и все преобразилось. На огромном пространстве, насколько хватал глаз, вытянувшись, отчего казались особо долговязыми, уложенные правильными арлингтонскими рядами, в бесчисленном множестве, головами в одну сторону, ногами в другую, словно бы устремляясь куда-то, сияя под прожекторами, точно чертежные принадлежности на бархате большой черной готовальни, взгляду предстали покойники. Причем некрополь пересекался аллеями, и повсюду виднелись указатели.
“Какое-то время мы тут поперемещаемся. Подправим отклонившихся! — услышал М. голос пилота. — При подлете к нашему — предупрежу”.
Поразительное кладбище удивляло многих. Большинство вечных его постояльцев покоились без гробов — доставка в домовине стоила огромных денег. Зато кое-кто был обложен пухом. Так родственники, желая хоть что-то для дорогого праха сделать, истолковывали похоронное напутствие “Да будет тебе земля пухом”, к тому же и подвоз пуха обходился в копейки. Кое-где торчали надгробные стелы, а кое над кем нависали от метеоров бетонные прямоугольники.
Погост вообще-то находился в довольно безопасном углу Вселенной. Метеорные потоки здесь наблюдались минимально, а залетавшие космические частицы бывали невелики и производили незначительный беспорядок. Хотя могло залететь что-то и размером с кирпич. Но такое случалось редко. К тому же все могилы были застрахованы.
На большинстве из упокоившихся посверкивал тонюсенький иней. Абсолютный нуль межзвездных пространств совершал свое дело. Оттого-то под осветительными устройствами аппарата поле скорби сияло и сверкало, чем еще больше напоминало готовальню с рейсфедерами и стиснутыми в бархатных желобках циркулями.
Бухгалтер М. открывшимся зрелищем был просто ошеломлен, а пилот между тем время от времени давал необходимые пояснения. Например, что магометан тут не хоронят, потому что фирма не успевает доставить усопшего за день — магометане закапывают своих в день смерти.
Иногда он чертыхался, увидев кого-то, чересчур сдвинутого метеором, а иногда, забывая про микрофон, матерился.
“Всё. Достигли! — сказал он наконец. — Приготовляемся скорбеть”, и тут бухгалтеру М. на некоторых надгробиях бросились в глаза фашистские знаки. Виднелась на одном и надпись “Еврей не суйся в эмпирей”, причем без полагающейся запятой. Возле таких надгробий столбом повисал пух.
“Опять осквернили! Прилетают козлы по ночам на военных машинах и бесчинствуют! — заворчал пилот. — А ты оттирай! Но и эти хороши, — пилот не мог успокоиться, — устроили для своих тут Новодевичье! Деньги им, блин, кучами достаются!”
Пилот принялся перемещаться, удаляя написанные глупости и корректируя сдвинутых. А бухгалтер М. внезапно увидел дядю — это пилот, чтобы покойники предстали в своем ненарушимом виде, включил противоинеевый обдув.
Дядю можно было и не обдувать — Константин Макарыча хоронили остекленным. Во избежание возникновения на кадаврах инея и замерзания последних в кость, отчего при соударении космические частицы могли расколотить дорогого человека вдребезги, применялось остекление или в просторечии остекленение. Труп обволакивался тоненькой, но несокрушимой стекловидной броней, отчего он не испарял влагу, а значит, не покрывался инеем, и никакой космической дребеденью не мог быть уничтожен, разве что сдвинут, виднеясь при этом сквозь стекло как живой.
Явившийся в луче между певицей и колбасником, слегка был сдвинут и дядя. Этак что-нибудь на палец. И — о чудо! Космический камешек, сместивший его, вероятно отскочив после соударения, обращался теперь вокруг Константин Макарыча наподобие сателлита, так что Константин Макарыч в каком-то смысле попал в число небесных тел, обладателей спутников, что молва полагала везением не меньшим, чем родиться в рубашке, ибо мало кому доводилось таким образом на веки вечные обеспечить себе хоть какое-то, но неодиночество.
В космической мерзлоте — к тому же застекленный — дядя выглядел прекрасно, словно только что из морга. Щеки его были румяны, густые брови — сама доброта, а глаза закрыты как если бы от чего-то приятного. Племяннику он, казалось, обрадовался и даже как будто слегка улыбался.
“Кладем петунии!” — распорядился пилот, а бухгалтер М., будучи в прозрачной кабине впритык к дяде, сглотнул слезу и, двигая особой рукоятью, положил букетик (тоже застекленный) у дядиных полуботинок.
Когда дядю подвинули, зазвучала панихида. Это совершалось из формального почтения к Всевышнему, коего уже давно трактовали не всерьез. Создатель, между прочим, в один прекрасный день снова являлся на Синайской горе, но уже не в горящем кусте и не в тучах, а какой есть, причем с Ним был установлен обыкновенный переговорный совсем не мистический контакт. Выяснилось, что Творец давно уже не Тучегонитель и устранился от дел.
“По молодости, — в некотором раздражении возвестил Он, — я продолжал увлекаться Творением, но когда понял, что все идет не туда, составил десять заповедей, полагая, что теперь уж скособочить мой замысел будет невозможно.
Да! Про Большой Взрыв вы догадались! Но догадка ваша гроша ломаного не стоит. Что именно рвануло, вы понятия не имеете. А я ведь на материал для Вселенной взорвал Сатану — до сих пор еще по небесам излишки летают! Но нет! Не Большой Взрыв был началом, а мое Слово, по-вашему пароль. Оно только и было в начале. И вам-то уж его не узнать сроду!
Я создал Вселенную из собственной воли и, честно говоря, на порыв свой понадеялся. Чего только я не напридумал! Ограничил вас непостижением бесконечности, сузил тремя измерениями, покатил по желобу шар бытия… Этого, как мне казалось, будет довольно. Увы, я не учел, что, ковыряясь в цепи причин и следствий, вы обязательно доковыряетесь черт-те до чего.
Теперь мне все это малоинтересно. Я обдумываю новую Вселенную. Новый ее тип. Будут ли в ней приматы пока не знаю. Но про три измерения забудьте — на самом деле есть семь исхищрений. Седьмое есмь я — Господь!