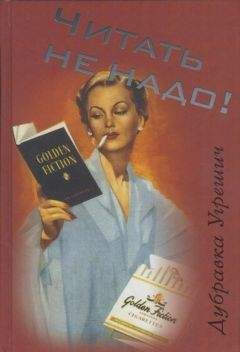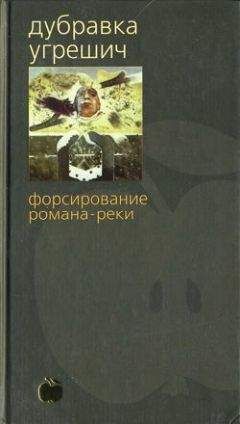Во время прошлогоднего пребывания в больнице, куда она попала сразу после своего восьмидесятилетия, у нее забрали вставные челюсти и парик, сложили их в прозрачные пакеты и прилепили маленькие этикетки с фамилией владельца. Мама попросила меня забрать парик домой («Пусть лучше дома лежит, вдруг здесь украдут!»). Когда ей отменили зонд, я достала челюсти из пластикового пакетика, на котором стояло ее имя и фамилия, и тщательно их промыла. Я мыла их каждый день, до тех пор пока она не смогла делать это сама.
— Я дома выстирала твой парик.
— А он не свалялся?
— Нет, все в порядке.
— Ты его надела на это… ну, чтобы он высох?
— Да, да, на болванку.
То, что я занималась ею, ее «сугубо личными» делами, значило для нее, как мне кажется, гораздо больше, чем физический контакт. Я пригласила больничную парикмахершу, которая подстригла ее очень коротко, и ей это понравилось. Больничная педикюрша привела в порядок ногти у нее на ногах, руками занялась я сама. Принесла в больницу ее кремы. Губную помаду она воспринимала как свой самый важный сигнал окружающим — сигнал о том, что она все еще принадлежит к миру живых. По этой же причине она упрямо отказывалась от больничной рубахи и требовала, чтобы из дома принесли ее пижамы.
В ее восьмидесятый день рождения мы с ней вдвоем пошли в ближайшую кофейню. Она совершила все свои привычные ритуальные действия: тщательно оделась, выбрала туфли с небольшим каблучком, парик, помаду.
— Как сидит?
— Отлично.
— Может, немного надвинуть на лоб?
— Не надо, так хорошо.
— Никто и не скажет, что это парик.
— Конечно.
— Так, как я выгляжу?
— Отлично…
Мы сидели в кофейне на террасе под открытым небом, пока летний дождь не загнал нас под крышу.
— Надо же, дождь как назло! Именно в мой восьмидесятый день рождения! — ворчала она.
— Сейчас кончится, — сказала я.
— Вот, не хватало еще промокнуть в день, когда мне исполнилось восемьдесят, — бубнила она.
Мы просидели в кофейне довольно долго, но дождь не утихал.
— Возьмем такси! Я не могу позволить себе вымокнуть! — бормотала она, хотя вероятность того, что найдется таксист, который согласится везти нас на расстояние в двести метров, была ничтожной.
На самом деле она волновалась из-за парика. Я убеждала ее, что с париком ничего не случится.
— А что, если я схвачу воспаление легких? Мы вызвали такси. И ее внутренняя паника погасла, как свечка на торте, которую она, в окружении своих приятельниц, задула несколько часов спустя.
В последние тридцать лет, с тех пор как умер отец, мама в основном проводила время дома. Она остановилась, застигнутая врасплох его исчезновением, и не понимала, как теперь быть. Время шло, а она продолжала стоять на том же месте, словно всеми забытый дорожный знак, поддерживала минимальные отношения с соседями, с нами, своими детьми, позже со своими внуками и жаловалась на однообразие своей жизни. Она впадала в отчаяние, ей часто казалось, что ее жизнь — это настоящий «ад», но она не умела помочь самой себе. Долго обвиняла нас, детей: отделились, бросили дом, больше не заботимся о ней так, как прежде, стали «чужими» (это дословное ее выражение). Однако и список наших предложений, от которых она отказывалась, рос изо дня в день: отказалась жить вместе с братом и его семьей («Зачем? Прислуживать им, превратиться в кухарку и прачку?!»), отказалась поменять квартиру, чтобы жить с ними по соседству («Тогда мне придется каждый день смотреть за их детьми!»), отказалась сопровождать меня в моих поездках, пока еще была физически на это способна («Я все это и так видела по телевизору!»), отказалась сама ездить куда-нибудь («Я поеду одна, и что, все на меня пальцем показывать будут?!»), часто отказывалась присоединиться к нам в дни семейных праздников или загородных прогулок («Идите сами, для меня это слишком утомительно!»), отказывалась побольше заниматься внуками («Я старая, я больная, я, конечно, ради них на все готова, но я от них так устаю!»), отказывалась ходить в какую-нибудь подходящую возрастную группу пенсионеров («Что мне там делать, среди стариков?!»), отказывалась от беседы с психологом («Что я, сумасшедшая, что ли, зачем мне психолог?!»), отказывалась от попыток найти для себя какое-нибудь хобби («Зачем мне хобби? Это утешение дм идиотов!»), отказывалась возобновить заглохшие отношения со своими старыми знакомыми («Что я буду с ними делать, одна, без папы?») — и так до тех пор, пока окончательно не смирилась. Со временем она полностью вросла в свой дом и свела «выходы в свет» к прогулкам по кварталу, на рынок, в магазин, в поликлинику, к приятельнице на чашку кофе. Под конец она ограничивалась только ежедневным походом в кофейню возле рынка. Ее категоричность во взглядах на самые пустяковые вещи («Слишком сладко — вот мое мнение! А ведь меня воспитали на остром!»), упрямство («Лучше умереть, чем согласиться на памперсы! Что я, беспомощная старуха?!»), требовательность («Сегодня мы должны постирать занавески!»), безапелляционность в оценках («В больнице все были старые и некрасивые!»), бестактность («Соседка, ваш кофе просто воняет!») — все это были сигналы какой-то глубокой боли, тлевшей в ней годами, постоянно присутствующего ощущения, что ее никто не замечает, что она словно стала невидимой. Борьбу против этой пугающей невидимости она вела так, как понимала и умела, теми средствами, которые имела в своем распоряжении.
Как-то раз в воскресный семейный день я сделала несколько снимков присутствующих в непринужденных позах. Я фотографировала ее, брата, жену брата, детей, всех нас вместе. А потом мне захотелось сделать отдельный снимок семьи брата — только их, вчетвером. Они расположились в кадре, а в последний момент с удивительным проворством туда же внедрилась и мама.
— Неужели вы собираетесь фотографироваться без меня?!
Всякий раз, наткнувшись на эту фотографию, я чувствовала, что у меня перехватывает дыхание. Ее втиснувшееся в кадр лицо и улыбка, одновременно и победоносная, и извиняющаяся, взламывали тяжелую дверь моей внутренней «запретной зоны», и я просто «рассыпалась» на части, если только этот глагол может описать то, что происходило со мной в такие моменты. А когда вся моя сила, сила каждого моего нерва истощалась в рыданиях, я, поперхнувшись, выплевывала на ладонь живой комочек, не больше десятка сантиметров, с овальным черепом, насаженным на шест позвоночника и немного выдающийся вперед, с опущенными веками и едва заметной улыбкой. Я смотрела на этот комочек у себя на ладони, мокрой от слез и слюны, как бы с какого-то очень далекого расстояния, без страха, как на собственного детеныша.
Первое, что я заметила, была тумбочка. Тумбочку я купила случайно, на воскресной ярмарке антиквариата, когда приезжала в прошлый раз. Старая, деревенская, обыкновенная, с украшенной резьбой дверцей. Старая краска была снята и только в этом — в оголенном старом дереве — и была ее прелесть. Сейчас тумбочка, грубо покрашенная грязновато-кремовой масляной краской, стояла в комнате как настоящее уродство.
— Это тот самый маленький сюрприз, о котором я тебе говорила.
В телефонном разговоре мама несколько раз упомянула, что меня ждет «один маленький сюрприз», но я не обратила внимания. Это был один из ее приемов: она часто пользовалась «маленькими тайнами» и «маленькими сюрпризами» как приманкой, и я уже привыкла к тому, что за ее обещаниями обычно ничего особенного не скрывается.
— Кто это покрасил?
— Ала.
— Какая Ала?
— Та маленькая болгарка, которую ты прислала.
— Мне кажется, ее зовут Аба.
— Так я и сказала Ала, что ты.
— Не Ала, а Аба!
— Хорошо, хорошо, что ты так сердишься.
— Нет, я не сержусь, — сбавила я тон.
На самом деле, мне было неприятно. И не из-за тумбочки, а из-за целой стратегической операции, которую она осуществила только потому, что тумбочка просто колола ей глаза. Она не могла смириться с тем, что «некрашеное уродство» стоит в ее доме — это было сильнее ее, но она не решалась мне сказать. Раньше у такой вещи не было ни малейшего шанса попасть в ее квартиру, но теперь, в новом для себя положении она стала более терпима. А когда пришла молоденькая болгарка, тут же родилась спасительная идея. Она, как я предполагаю, выдумала для Абы историю, что я хотела покрасить тумбочку, но не успела, и что она и сама бы ее уже давно покрасила, но, к сожалению, больше не в состоянии выполнять такую работу. А еще добавила, как я опять же предполагаю, что я буду приятно удивлена, увидев тумбочку уже покрашенной, причем именно так, как я и хотела. Вот так ей удалось, я думаю, уговорить изумленную гостью заняться покраской. Получилось, что это сделала вовсе не она, а Аба, точнее, они вместе решили сделать мне «маленький сюрприз».