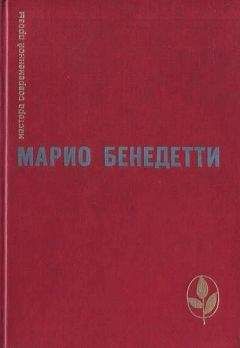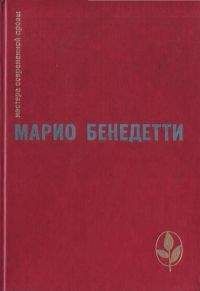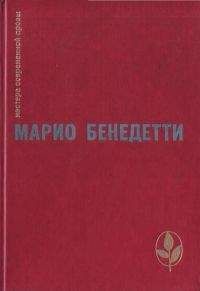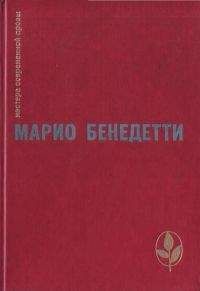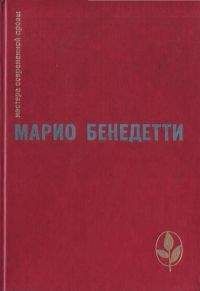Тема дома, о котором размышляет отец Сантьяго дон Рафаэль, также живущий в эмиграции, приобретает обобщенный смысл: думая о доме и бездомье, они думают о родине, об общем доме уругвайцев, о том пути, который они прошли, о своем поражении.
Писатель неоднозначно относится к своим героям. Сама форма романа, вносящего вклад в богатый каталог новых романных форм, предложенный латиноамериканской литературой, имеет содержательное значение. Внутренние монологи героев писатель перемежает автобиографическими заметками, размышлениями, воспоминаниями о годах революционного кризиса и эмиграции, как бы вводя тем самым себя в историю персонажей, а их приобщая к своей судьбе. Судьба автора едина с судьбами героев, однако есть у него и иная точка зрения, критическая — с позиций уроков истории. Разделяя с ними драму, писатель берет на себя ответственность и судить их.
Сантьяго, Грасиела, Роландо, безусловно, для него герои — каждый из них мужественно переносит все испытания, каждый из них остается верным идеалам новой нравственности, которым они принесли присягу, вступив на путь революции. И в то же время все они, безусловно, антигерои, ибо каждый из них перешел те опасные «границы», те «пороги», о которых размышлял герой предыдущего романа. Причем Сантьяго перешел «последний порог». Застигнутый полицией на подпольной квартире, вроде той, в которой прятался Освальдо Пуэнте, он убивает своего брата, полицейского агента. «В нашей борьбе нет ни дома, ни брата», — резюмирует Сантьяго. Оказывается, есть и дом, и брат.
Тему ближнего писатель доводит до предела: Сантьяго убил своего двоюродного брата (давняя тема писателя — развал семейных связей, вражда братьев). Бенедетти не вкладывает никакого очевидного философского смысла в понятие «брат», однако, предельно обострив конфликт (двоюродный брат еще и садист, истязатель революционеров), он ставит перед читателем сложнейшую социально-нравственную проблему, порождаемую революционной действительностью: каковы сущность и пределы «революционного насилия». Прямых формулировок и оценок событий писатель не дает, да и вообще он не особенно выделяет эту тему, более того, как бы прячет ее среди прочих, заставляя читателя самостоятельно осознать ее коренной смысл и судить героев без подсказок. А судить здесь не просто. Вроде бы на первый взгляд Сантьяго прав — что же он, собственно, мог сделать в такой ситуации? Но что-то его постоянно точит, да и мы сами, оправдав его сначала, ощущаем потом, что суд не закончен. Вот и тюрьма уже позади, Сантьяго на свободе, под прошлым подведена черта. Подведена ли? Чуть он задремлет, ему во сне является брат в образе того мальчика, с которым он когда-то играл в детстве. И этот «кровавый мальчик» будет у него перед глазами до конца жизни. Отец Сантьяго, единственный, кого он посвящает в случившееся, фактически отказывается его оправдать. Он «почти» не понимает сына. Конечно, такие события, революция, борьба… Но почему же оправдания нет? А дело в том, что Сантьяго, соратник героя из романа «День рождения Хуана Анхеля», решившего, что он имеет право убивать, совершает не «революционное насилие», а просто-напросто убийство. Причем убийство это Бенедетти, верный своей философии «среднего», «мелкого» человека, трактует как самый жестокий, последний обман. Сантьяго осознает, что убил брата обманным способом, воспользовавшись замешательством взаимного узнавания. Он обманул, как всегда обманывали «средние» монтевидеанцы, но здесь обманут уже не отдельный человек, а предан гуманистический смысл революции. Нравственный надлом Сантьяго — это не индивидуальная коллизия, а человеческий крах индивидуалистической левацкой философии «вседозволенности», потерпевшей прежде крах политический.
Маноло, их бывший друг, идеолог революции «без выбора средств», для которого человек — это другой, избежал тюрьмы и преспокойно устроился пережидать время в тихой, мирной Швеции. Он обманул всех. Те, кто не утратил человечности, страдают, хотя психология обманной жизни еще не вытравлена из их сознания. Сантьяго в тюрьме гадает, обманет его жена с другим или нет — обман происходит. Грасиела и Роландо полюбили друг друга, оба мучаются оттого, что обманывают, как бы убивают Сантьяго, томящегося в тюрьме. Но они все-таки наносят ему смертельный удар, да еще в спину, обманным способом — решив не сообщать об этом «в его же интересах». Оба они обманывают и маленькую дочку Сантьяго и Грасиелы. Все переступили «пороги».
Снова звучит танго обманной жизни «средних» мондевидеанцев, танго одинокого, эгоистичного, отчужденного человека. «Весна с отколотым углом» в полном смысле мелодрама. Весь роман пронизан цитатами из танго, танго поет в тюрьме Сантьяго, «танговая философия» целиком определяет образ Роландо, типичного «среднего» монтевидеанца в варианте провинциального уругвайского «плейбоя», разбивателя сердец. Став революционером, он пытается подняться над трясиной «среднего» человека, но неизменно обрушивается в нее. Дребезжащая, надтреснутая мелодия танго определяет сам характер происходящей драмы обмана, общую тональность романа, который, если «перевести» его название на танговый язык, мог бы называться «обманутая весна», «обманутые надежды», «утраченные грезы» или как-нибудь в этом роде… Бенедетти упорно подчеркивает принадлежность героев к тривиальному танговому миру эгоизма, мелкой расчетливости, посредственности чувств. Сантьяго, оказывается, под пытками «молчал по расчету» — чтобы самому спастись, ибо тот, кто заговорит, пропал, убийство полицейского-брата он скрывает. Грасиела вульгарна, Роландо — едва ли не воплощение танговой пошлости. Дон Рафаэль, который, казалось бы, воплощает авторскую точку зрения, тоже танговый герой с обманами (отношение к жене, матери Сантьяго).
Так что же, снова «короткая» история обмана, и ничего больше? Нет, это иная история. Помимо танго, в романе звучит и иная мелодия — чистая мелодия «Весны» из цикла «Времена года» Вивальди, классическая мелодия гуманистической нравственности, отвергающая «третьесортную человечность» переступивших «пороги». Это любимая мелодия матери Сантьяго, которая таит в себе новые для героев Бенедетти резервы человечности. Возможно ли рождение новой гармонии из столкновения двух нравственных стихий — танговой и классической? Разумеется, нет. Для новой жизни нужна «другая речь», а значит, другая мелодия. Какая?
Никто из героев Бенедетти этого не знает. Назидательная история о любви Клаудии и Анхеля, выдержавшей испытания тюрьмой и эмиграцией, еще ничего не определяет. Нужен новый человек, тогда будет и новая мелодия, тогда будет новый дом, где будут жить ближние, — вот проблема, которую заново и по-новому ставит Бенедетти. Писатель оставляет финал открытым: Сантьяго, выпущенный из тюрьмы, идет навстречу ожидающим его дочке, отцу, Грасиеле, Роландо. Что будет дальше? Финал «короткой», банальной истории обмана или начало «длинной» истории становления новых людей через муки рождения нового сознания. Мы не знаем этого, не знает этого и писатель. Но он и не отказывает им в праве на весну, в возможности стать новыми людьми. Ведь в его «средних» монтевидеанцах изменилось что-то очень существенное. Пройдя через новые и самые суровые обманы, они обрели то, чего раньше у них не было, — растревоженную, заболевшую совесть. И это касается не только Сантьяго, но и Роландо. Ведь он напевает танго одинокого человека как бы машинально, а думает не только о себе, но и о ближних, он мучается другими. Заболевшая совесть — это и есть ощущение ближнего, ответственности за общий дом, за судьбы революции, которая призвана не смести его, а перестроить так, чтобы в нем могли жить все. Это знак понимания того, что нужен другой путь. Новый путь не ясен, но не случайно же Сантьяго думает о том различии, которое обнаруживают в своем поведении в революционной ситуации «средние» монтевидеанцы и те, кого он называет «пролета», — рабочие, страдавшие рядом с ним в соседних камерах. Там тоже пели танго — а как же иначе, ведь они тоже монтевидеанцы! — но, возможно, другое танго. Невольно приходят на память стихи известного аргентинского поэта Рауля Гонсалеса Туньона «Улица танго», где он противопоставлял дребезжащему танго одиночки — «фабричное танго» рабочих, «настоящее танго», которое «стучит в грудь народа». Значит, может быть иным танговый мир!
Есть и другой итог художественного поиска Бенедетти. Это сама родившаяся из «приглушенного» тангового мира «средних» уругвайцев идея «нового человека» по-уругвайски, а возможно, и вообще по-латиноамерикански. Особенность ее в том, что она принципиально противостоит всякой парадной и громогласной — романтизированной — концепции «нового человека». Весь художественный мир Бенедетти молчаливо противополагает ей полемическую идею обыденного «нового человека» — не с большой, а с маленькой буквы, человека, взятого в измерении исторической повседневности, в пропорциях реальной жизни, то есть приближенного к человеческой обыденности. Как совместить новую меру гуманистического с обыденным, то есть обычным человеком, не ущемив в нем человека? — подобный вопрос в той или иной формулировке встает перед литературой там, где история подводит ее к этому рубежу. Ответы на него всегда мечены специфической историей той или иной страны. То же и у Бенедетти, который, исходя из опыта пристального и сурового изучения своих героев, приглашает нас вновь задуматься над этой сложнейшей проблемой XX века, когда социально-духовная ломка, влекущая человечество в будущее, стала повседневностью.