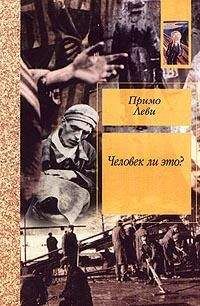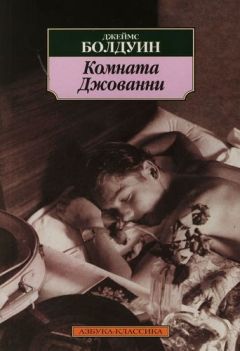Первой и главной мишенью Ядзи был, разумеется, Хенек, но Хенек ее не хотел, он смеялся над пей. Правда, будучи пареньком практичным, он решил, что грех упускать случай, и поделился этим соображением с Ноем, своим ближайшим другом.
Ной жил не с нами, вернее, он жил нигде и везде. Свободный кочевник, он радовался уже тому, что дышит и ходит по земле. Он был Scheipminister вольного Освенцима, начальник нужников и выгребных ям. Однако, несмотря на гнусную должность (занятую им, между прочим, по доброй воле), в нем самом никакой гнусности не было, а если и была, то она растворилась в его неуемном жизнелюбии. Это был юный Пантагрюэль, сильный, как бык, ненасытный и похотливый. Подобно Ядзе, хотевшей всех мужчин, Ной хотел всех женщин. Но если слабенькой Ядзе хватало и того, чтобы просто прилепиться к кому-нибудь, точно моллюску к подводной скале, Ной был птицей высокого полета: сидя на смердящем ящике своей повозки, он с раннего утра и до позднего вечера колесил по улицам лагеря, щелкая кнутом и горланя песни. Перед входом в каждый блок повозка останавливалась, и, пока его вонючие перемазанные подручные делали, чертыхаясь, свое грязное дело, Ной, как восточный принц, в своей заплатанной, расшитой узорами куртке со множеством застежек, инспектировал женские комнаты, и его любовные встречи напоминали ураганные вихри. Он был другом всех мужчин и любовником всех женщин.
Потоп кончился, в черном освенцимском небе засияла радуга, и перед Ноем открылся мир, и мир этот принадлежал ему, и он призван был его заселить.
Фрау Витта, вернее, фрау Вита — жизнь, как ее все называли, напротив, не делила людей на мужчин и женщин и любила всех одинаково, сестринской любовью. Фрау Жизнь, вдова из Триеста, молодая женщина с изнуренным телом и ласковым светлым лицом, наполовину еврейка, была узницей Биркенау. Она часами просиживала у моей постели и, то смеясь, то плача, разговаривала, как истинная триестинка, о тысяче вещей одновременно. Физически она была здорова, но го, что она пережила за год и в последние страшные дни, глубоко ранило ее душу. Ее «откомандировали» возить трупы, части трупов, жалкие безымянные останки, и она не могла освободиться от этих недавних впечатлений, они угнетали ее невыносимо. Пытаясь вытравить из памяти ужасные картины, она окунулась в кипучую деятельность: единственная из всех, ухаживала с каким-то неистовым сочувствием за больными и детьми; если оставалось время — с остервенением драила полы, протирала окна, перемывала кружки, гремела котелками, бегала по палатам, передавая нередко выдуманные ею же приветы, потом возвращалась, усталая, запыхавшаяся, со слезами на глазах, и, испытывая потребность в человеческом участии, садилась ко мне на нары поговорить, поплакаться. Вечером, когда все дневные дела были переделаны, она, не в силах вынести одиночества, срывалась со своего ложа и начинала танцевать в проходе между нар, что-то напевая и нежно прижимая к себе воображаемого партнера.
Это она, фрау Жизнь, закрыла глаза Андре и Антуану, молодым крестьянам из Вогез. Оба были моими товарищами по десятидневному междуцарствию, у обоих была дифтерия. Мне казалось, я знаю их тысячу лет. По странному совпадению сразу у обоих началась дизентерия, которая очень быстро приняла форму тяжелого амёбиаза: судьба их была предрешена. Они лежали на соседних нарах, терпели, стиснув зубы, мучительные колики, не понимая их смертельного характера, тихо разговаривали между собой, не жаловались и не просили помощи. Первым ушел Андре, во время разговора, оборвав фразу на полуслове; погас, как свеча. Два дня никто за ним не приходил, лишь время от времени с опаской подбегали дети и, посмотрев, возвращались играть в свой угол.
Антуан остался в молчаливом одиночестве, полностью погрузившись в преображающее его ожидание. Он не был худ, но за два дня настолько отощал, что можно было подумать, будто лежащий рядом покойник высасывает из него последние соки. После долгих и бесплодных попыток нам с фрау Жизнью удалось наконец заполучить врача. Я спросил его по-немецки, можно ли что-то сделать, есть ли надежда, и предупредил, чтобы он не отвечал по-французски. Он ответил на идише, короткой фразой, и, видя, что я не понял, перевел на немецкий:
— Sein Kamerad ruft ihn — его товарищ зовет его.
Антуан откликнулся на зов в тот же вечер. Ему, как и Андре, не было и двадцати, в лагере они пробыли всего месяц.
Ночью в полной тишине наконец появилась Ольга, принеся мне скорбную весть о лагере Биркенау и о судьбе женщин из моего транспорта. Я не был с ней знаком, но ждал ее уже много дней: фрау Жизнь, которая, вопреки санитарным запретам, ходила по другим отделениям, ища, кому бы еще помочь и с кем поговорить по душам, рассказала нам о существовании друг друга и устроила тайную встречу глубокой ночью, когда все спали.
Ольга, хорватская еврейка и партизанка, в сорок втором году бежала с семьей в Асти, где некоторое время спустя была интернирована. Таким образом, она принадлежала к той многотысячной волне евреев, которые устремились в Италию из-за границы, чтобы, как это ни парадоксально, найти в официально антисемитской стране гостеприимство и временный покой. Ольга была женщина большого ума и большой культуры, сильная, красивая, общительная. Попав в Биркенау, она выжила, единственная из всей своей семьи.
По-итальянски она говорила великолепно. Чувство благодарности и сходство темпераментов свели ее в лагере с итальянками, особенно она подружилась с женщинами, которые прибыли одним транспортом со мной. Глядя в пол, при свете свечи она поведала мне их истории. Слабое колеблющееся пламя освещало в темноте ее лицо с преждевременными, резко прочерченными морщинами, придавая ему сходство с трагической маской. Она была в платке, но вдруг сняла его, и тогда маска стала зловещей маской смерти: на голом черепе Ольги только-только начал пробиваться седой пушок.
Умерли все. Все дети и все старики — сразу. Из пятисот пятидесяти человек, о которых я ничего не знал с момента прибытия в лагерь, лишь двадцать восемь женщин направили в Биркенау, и в живых из них осталось только пять. Ванда вошла в газовую камеру с ясным сознанием. Ольга сама достала для нее две таблетки снотворного, но они на нее не подействовали.
К концу февраля, провалявшись месяц на нарах, я чувствовал себя если не вполне поправившимся, то уже и не больным. Я прекрасно понимал, что, пока не обзаведусь обувью и не заставлю себя подняться на ноги, мне здоровье и силы не восстановить, поэтому во время одного из редких медицинских обходов спросил врача, нельзя ли мне покинуть лазарет. Врач внимательно (или делая вид, что внимательно) осмотрел меня, сказал, что шелушение после перенесенной скарлатины закончилось и с его стороны возражений нет. После смехотворного совета не перетруждать себя и не переохлаждаться он пожелал мне счастливого пути.
Я смастерил из одеяла пару бахил, напялил на себя за неимением другой одежды все лагерные штаны и куртки, какие только смог раздобыть, попрощался с фрау Витой и Хенеком и ушел.
На ногах я держался довольно плохо. Первый, кого я увидел, выйдя из инфекционного барака, был советский офицер; он сфотографировал меня и подарил пять сигарет. Через несколько шагов я попался на глаза штатскому, который отлавливал людей для уборки снега. Не обращая внимания на мои протесты, он всучил мне лопату и велел присоединиться к уже действующей бригаде.
Я протянул ему пять сигарет, но он гневно отверг их. Бывший капо, он, естественно, и теперь оказался при деле, впрочем, разве кому-нибудь еще удалось бы заставить работать таких доходяг, как я? Убедившись сразу, что орудовать лопатой мне не под силу, я задумался. Если удастся незаметно завернуть за угол барака, я улизну, только меня и видели. Но как избавиться от лопаты? Взять ее с собой — рискованно; продать бы кому-нибудь, да только кто ее купит? И в снег не закопаешь, он слишком мелкий… В конце концов я сунул ее в подвальное окошко и лишь после этого вздохнул с облегчением.
Я направился в ближайший барак, но дорогу мне преградил охранявший вход старый венгр. Он не хотел меня впускать, но сигареты сделали свое дело, и я вошел. Внутри было тепло, накуренно, шумно, ни одного знакомого лица, но вечером, как и всем остальным обитателям барака, мне дали порцию супа. Я рассчитывал передохнуть здесь пару деньков и набраться сил, но мои расчеты не оправдались: уже на следующее утро русский поезд вез меня навстречу неизвестности.
Сейчас я не могу точно вспомнить, когда и при каких обстоятельствах возник этот грек. В те дни в местах недавних боев гуляли над опустошенной землей ветра; казалось, она снова погрузилась в первобытный хаос. В этом хаосе копошились странные, уродливые, непонятные человеческие существа, пытавшиеся со слепым всепоглощающим упорством найти свое место, свою нишу — наподобие того, как но космогоническим представлениям древних стремились к разъединению частицы первоэлементов.