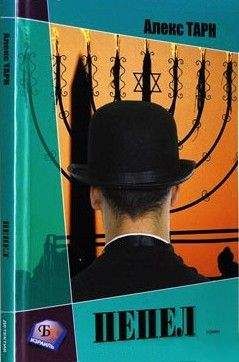Ознакомительная версия.
Более того, чем ближе к тебе находился человек со звездой, тем больше было шансов, что палец блокфюрера или вахтмана укажет именно на него, а не тебя. Если вы, Ваша честь, представите себе работу громоотвода, то именно так это выглядело и в нашем случае, и поэтому те, кто посмышленее и поопытнее, стали обзаводиться такими еврейскими громоотводами. Ну, и я тоже решил не отставать. Йозеф был моим вторым по счету громоотводом; первый, адвокат из Штутгарта, продержался менее трех недель. Да, да, Ваша честь, с адвокатом у меня вышла промашка… хе-хе… и на старуху бывает проруха. Так-то, на глаз, он казался вполне крепеньким, хотя и немолодым. Кто ж мог знать, что у него окажется больное сердце?
После первого неудачного опыта я понял, что надо искать себе кого-нибудь помоложе, ну и… Только я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто я каким-то некрасивым образом использовал своих евреев. Это абсолютно не так, Ваша честь. Речь тут шла исключительно о взаимовыгодном союзе, можно даже сказать, симбиозе. Я честно вносил свою лепту, обучая новичков лагерной премудрости, и еще неизвестно, кто кому в этой ситуации был полезнее. В конце концов, это ведь не я решил, что у них на груди должна быть именно звезда, а не треугольник, как у всех нормальных людей!
Йозеф выглядел совсем мальчиком… нежным мальчиком восемнадцати лет. Наверное, в качестве громоотвода больше подошел бы кто-нибудь погрубее, но уж больно он был красив, прямо Иосиф Прекрасный, да и только. Не подумайте, что между нами возникли какие-то отношения, клянусь вам, нет!.. Боже упаси… да и как это в лагере… но на воле я бы непременно в него влюбился, и не я один. Хе-хе… В общем, вышел я искать громоотвод, а нашел… нет, Ваша честь, не любовь… А впрочем, черт с ним, почему бы не назвать вещи своими именами? Конечно, это была безнадежная любовь, без шансов на то, что когда-нибудь, где-нибудь… Но, Ваша честь, разве можно наказывать за фантазии, когда они надежно похоронены глубоко-глубоко в голове? За фантазии о чистом и светлом чувстве между двумя людьми, особенно, когда фантазируешь тайком, крепко закрыв глаза, чтобы не выдать себя даже взглядом… и лежа при этом на кишащих вшами тифозных нарах концлагерного блока, среди крысиного визга и сумасшедшего бормотания лунатиков? Разве это преступление, Ваша честь?.. Можно мне воды?
Спасибо. Это было абсолютно бескорыстное чувство, Ваша честь. Наша любовь всегда бескорыстна… я имею в виду нас, хе-хе… стосемидесятипятников. У нас нету этого вечного перетягивания каната: кто из двоих главнее?.. кто кого подомнет?.. и так далее. Мы просто… да-да, извините, я опять отклонился от темы. Вернее, не так уж я и отклонился, потому что хотел сказать, что очень к нему привязался, к Йозефу. Если бы можно было поменяться с ним нашивками, я бы, поверьте, сделал это с радостью. Я был бы просто счастлив, Ваша честь, навесить на себя его проклятую звезду, а ему отдать свой проклятый треугольник. Точно так же, как я был счастлив, когда его освободили, хотя и знал, что мы расстаемся, вернее всего, навсегда.
Он был нежный мальчик из профессорской семьи. Папаша у него ходил в героях первой мировой войны, дважды раненый, весь в медальках и орденах. Всю жизнь гордился тем, что защищал родную Германию. Это-то их и сгубило. Когда в 33-м году нацисты провели закон о гражданской службе, всех неарийцев стали выкидывать с работы, и из университетов тоже. Йозефов папаша, не то физик, не то химик, изобретал что-то взрывающееся… а может, стреляющее… короче, деталей я не помню. Помогал своей стране вооружаться, чтобы смыть пятно Версальского позора. Хе-хе…
Йозеф говорил, что мать сразу сказала, что надо бежать, пока еще есть такая возможность. Но папаша отказался. Он, видите ли, верил в здравый смысл и духовную чистоту немецкого народа, старый козел… извините, Ваша честь, сорвалось… Тем более, вскоре выяснилось, что выгоняют не всех. Ветераны войны продолжали работать на прежних местах, даже если им не выпало такое счастье родиться арийцами. Конечно, папаша узрел в этом лишнее подтверждение своей правоты. Из университета его все-таки выперли, правда, только через три года, после того, как нацисты отменили последние поблажки для неарийцев. Но и тут господин профессор отказывался верить своим глазам. Не зря у нас говорят: самый упрямый мул — еврейский. Так вот и получилось, что, когда он, наконец, взялся за ум, бежать было некуда. Во-первых, власти требовали заплатить огромный налог, а денежек-то после двух лет безработицы уже не хватало. А во-вторых, никто теперь не давал виз. Ни Америка, ни Англия, ни Швейцария, ни Франция… никто. Никто, Ваша честь, не хотел моего прекрасного Йозефа. Кроме, конечно, меня и нацистов.
Когда их арестовывали, отец сказал Йозефу, чтобы тот не волновался — он позвонит своему фронтовому другу в Берлин, и все устроится. «Не бойся, Йоселе, нас сразу же освободят! Это ошибка!» — кричал он вслед своему сыну, пока гестаповец не стукнул его хорошенько по глупой профессорской плеши. Нет, Ваша честь, я не злорадствую, мне просто очень обидно за моего бедного несмышленого Йозефа. Мальчик так верил отцу… прямо-таки боготворил его. «Вот увидишь, Карузо», — говорил он мне… Карузо — это моя кличка, Ваша честь. Дело в том, что я просто обожал петь, а слухом меня Бог обидел, причем очень сильно, вот и прозвали меня так — Карузо. Смешно, правда?
«Вот увидишь, Карузо, — говорил он мне. — Не пройдет и недели, как я отсюда выйду. Знал бы ты, какие у папы друзья в Берлине!»
Ага, как же… для того, чтобы выйти оттуда, требовались, как минимум, две вещи: деньги и виза, а у них не было ни того, ни другого. Я, конечно, изо всех сил старался поддерживать парня, особенно, когда он уже разобрал, что к чему, и начал падать духом. «Не вешай носа, Йос! — так я его называл, Йос. — Папаша вот-вот вызволит тебя из этой вонючей ямы, и ты должен беречь себя, чтобы целехоньким предстать пред его светлые очи!»
Хе-хе… гвоздики с колечками…
Беречь… легко сказать, Ваша честь, да трудно сделать. Работы у нас тогда были такие: щебеночный карьер, осушка канав и слесарная мастерская. В карьере он бы долго не протянул, это точно. Тут молодой, не молодой — не столь важно; все решает ухватка. Если умеешь за тачку ухватиться — протянешь несколько месяцев, а там, глядишь, и соскочишь на какую другую работенку. А не умеешь — пиши пропало. В полдня руки-ноги собьешь, а назавтра уже спотыкаться начинаешь, тачки ронять… а где тачку уронил, там и капо с палкой, и вахтман с хлыстом. Бывало, люди за неделю до лунатиков доходили. И паренек мой дошел бы… с его-то руками да за тачку… хе-хе…
Канавы тоже не годились. Там, хоть и попроще, но уж больно нездорово: вечно мокрый с головы до ног, а одежды-то никакой. Вот тебе и малярия с пневмонией… Так или иначе, оставалась одна слесарка, гвоздики с колечками. Тоже несладко — напильником по четырнадцать часов скрежетать, но, по крайней мере, в тепле и под крышей. Правда, была нешуточная опасность и в слесарке — там особенно следили за нормой. Не выработал норму — карцер. А карцер, Ваша честь, это такое место, рядом с которым лагерный барак кажется президентскими апартаментами в отеле «Эксельсиор». Каменный мешок, где сидели без света, без воздуха и без еды, зато в цепях и в собственных экскрементах. Только самые крепкие, выйдя оттуда, не сваливались в лунатики. Нет, сам я не попадал. Я ж вам говорил, что в лагере выживает только тот, кто учится на чужих ошибках.
Лично я работал в то время в этой самой слесарке и с нормой справлялся легко: так уж получилось, что есть у меня эта ловкость в руках, хватка, то есть. А до этого и с тачкой управлялся лучше всех, скажу, не хвастаясь. Так что, если приналечь, то можно было и за себя отработать, и Йозефу немного помочь. В общем, стал я добиваться, чтобы его в слесарку определили. Да… ну и… добился. Как? А как чего-то добиваются в лагере? — Платишь кому надо и получаешь что надо. Что? Чем платишь?.. Ну… Конечно, мог бы я вам сейчас сказать, что были у меня, как и у всякого опытного заключенного, притырены тут и там всякие заначки на черный день. И ведь действительно были заначки: и денежек немного, и сигареты — лагерная валюта, и лекарства кое-какие, и даже ампула морфия, выменянная у лазаретского медбрата за губную гармошку. Мог бы сказать… но как соврать столь высокому суду, Ваша честь? Всех моих сокровищ не хватило бы и на половину требуемой взятки. Так что пришлось мне заплатить иначе.
У стосемидесятипятника, Ваша честь, всегда есть, чем заплатить, если очень-очень надо… А я так хотел, чтобы паренек уцелел. «Ничего, Карузо, — сказал я себе. — Потерпи, а потом, на небесах, этот грех зачтется тебе, как благо».
Самое смешное, что так оно и случилось. Натерпеться-то я натерпелся, это да… но по-настоящему опытный человек… Что? Что такое по-настоящему опытный? Ну, это просто, Ваша честь. По-настоящему — это значит в науке выживания. Любой другой опыт — не настоящий. Я так думаю. Вернее, так меня учит мой собственный настоящий опыт, гвоздики с колечками. Так вот, по-настоящему опытный человек знает, что он действительно сотворен из глины, но подобен Богу.
Ознакомительная версия.