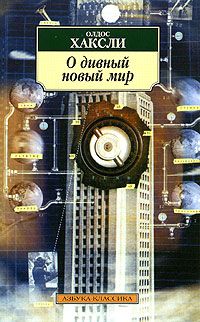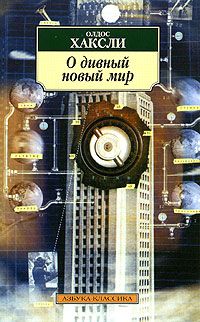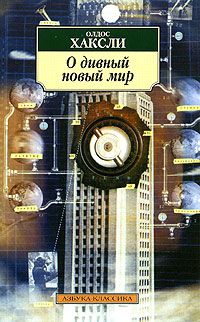Он продолжал ходить взад и вперед. Голос его звучал то громче, то тише, иногда Дэнис замолкал, потом возобновлял свои рассуждения. Он жестикулировал кистью, иногда взмахивал всей рукой. Анна смотрела на него и молча слушала, словно на лекции. Он милый мальчик, а сегодня выглядит очаровательно, просто очаровательно.
—В жизнь входишь с готовыми представлениями обо всем, — развивал свою мысль Дэнис.— Имеешь какую-то философию и пытаешься подогнать под нее жизнь. Надо бы наоборот: сначала пожить, а потом подогнать свою философию под жизнь. Жизнь, события, явления ужасно сложны; идеи, даже самые сложные, обманчиво просты. В мире идей все ясно, в жизни — непонятно и запутанно. Удивительно ли, что чувствуешь себя одиноким и ужасно несчастным?
Дэнис остановился перед скамейкой, и, задавая этот последний вопрос, раскинул руки, и мгновенье стоял так, словно распятый, потом опустил их.
—Бедный Дэнис! — Анна была тронута. Такой милый в этих белых фланелевых брюках, он в самом деле вызывал сочувствие. — Но надо ли страдать из-за подобных вещей? По-моему, это уж слишком!
—Вы как Скоуган, — с горечью воскликнул Дэнис. — По-вашему, я всего лишь объект для антрополога! Что ж, наверное, так оно и есть.
—Нет, нет, — запротестовала она и подобрала юбку, приглашая его сесть рядом. Он сел. — Почему вы не можете просто воспринимать все как оно есть? — спросила она. — Это намного проще.
—Конечно, проще, — сказал Дэнис— Но этому надо учиться постепенно. Сначала надо избавиться от двадцати тонн логических рассуждений.
—Я всегда воспринимаю все как оно есть, — сказала Анна. — Это столь естественно. Радуешься хорошему, сторонишься неприятного. Вот и все!
—Да, — для вас. Но ведь вы родились язычницей. Я всеми силами тоже пытаюсь стать язычником. Я ничего не могу воспринимать как оно есть, ничему не могу просто радоваться. Красота, удовольствия, искусство, женщины — мне надо изобрести предлог, оправдание для всего, что прекрасно. Иначе я не могу спокойно наслаждаться им. Я сочиняю небольшой рассказ о том, что в красоте и заключены истина и добро. Должен сказать, что искусство —это процесс, с помощью которого из хаоса воссоздается божественная реальность. Наслаждение — один из таинственных путей к гармонии с бесконечным — восторги вина, танцев, любви... Что касается женщин, то я постоянно убеждаю себя в том, что они — наполовину небесные созданья. И подумать только, я лишь теперь начинаю понимать глупость всего этого. Мне трудно поверить, что кто-то избежал этих ужасов.
—А мне еще труднее поверить в то, — сказала Анна. — что кто-то становится их жертвой. Хороша бы я была, поверив, будто мужчины — это наполовину небесные созданья!
От иронической и злой улыбки в углах ее рта возникли две маленькие складки, а глаза из-под полуприкрытых век искрились смехом.
—Кто вам нужен, Дэнис, так это симпатичная пухленькая молодая жена, твердый доход и немного приятной и постоянной работы.
«Кто мне нужен, так это вы». Именно это он должен был ответить ей, именно это он страстно хотел сказать. Он не мог сказать этого. Его желание боролось с застенчивостью. «Кто мне нужен, так это вы». Мысленно он кричал эти слова, но ни звука не слетело с его губ. Он смотрел на нее в отчаянии. Неужели она не видит, что происходит в нем? Неужели она не понимает? «Кто мне нужен, так это вы...» Он скажет это, он скажет, скажет!
— Я, пожалуй, пойду искупаюсь, — сказала Анна. — Так жарко. Возможность была упущена.
Мистер Уимбуш пригласил гостей осмотреть ферму, и теперь они стояли все шестеро — Генри Уимбуш, мистер Скоуган, Дэнис, Гомбо, Анна и Мэри — у невысокой стены свинарника, заглядывая внутрь одной из клетушек.
—Хорошая свиноматка, — сказал Генри Уимбуш.— Она принесла четырнадцать поросят.
—Четырнадцать? — с недоверием переспросила Мэри. Она посмотрела своими изумленными голубыми глазами на мистера Уимбуша, потом уронила взгляд на живую массу, в которой бурлила elan vital[5].
Громадная свинья лежала на боку посреди клетушки. Ее круглое черное брюхо с двумя рядами сосков было открыто для нападения целой армии маленьких коричнево-черных поросят. С неистовой жадностью они рвали соски своей матери. Старая свинья время от времени беспокойно шевелилась или тихо хрюкала от боли. Одному поросенку — самому маленькому и слабому — не досталось места на этом пиру. Пронзительно визжа, он бегал взад и вперед, пытаясь протиснуться между своими более сильными братьями или даже вскарабкаться на них и по их крепким черным спинкам добраться до материнского молока.
— Их действительно четырнадцать, — сказала Мэри. — Вы совершенно правы. Я сосчитала. Это невероятно!
— Свиноматка в соседней клетушке, — продолжал мистер Уимбуш, — показала себя очень плохо. У нее только пять поросят. Я дам ей еще одну возможность. Если в следующий раз она не покажет себя лучше, я ее откормлю и забью... А вот там — хряк. — Он указал на дальнюю клетушку. — Отличная скотина, правда? Однако свое лучшее время он уже отживает. С ним тоже придется расстаться.
—Как жестоко! — воскликнула Анна.
— Но как практично, как замечательно реалистично! — сказал мистер Скоуган. — Эта ферма — модель здорового, по-отечески мудрого правления. Заставьте их размножаться, заставьте их работать, а когда их время размножаться, работать или производить пройдет — отправьте их на бойню.
— Занятие сельским хозяйством — это, кажется, одно неприличие и жестокость, — сказала Анна.
Наконечником своей трости Дэнис начал почесывать большую, покрытую щетиной спину хряка. Животное слегка пошевелилось, словно подставляя себя орудию, которое возбуждало столь приятные ощущения, и замерло, похрюкивая от наслаждения. Многолетняя грязь шелушилась и серыми струйками сыпалась с его боков.
— Какое удовольствие, — сказал Дэнис, — сделать кому-нибудь что-нибудь доброе. Я чешу этого хряка, и, кажется, мне это не менее приятно, чем ему. Если бы только можно было всегда проявлять доброту вот так, без особых усилий.
Хлопнула дверь, раздались тяжелые шаги.
— Доброе утро, Раули! — сказал Генри Уимбуш.
—Доброе утро, сэр! — ответил старый Раули. Он был самого почтенного возраста из всех работников на ферме — высокий, крепкий мужчина, все еще прямой, с седыми бакенбардами и чеканным, величественным профилем. Серьезный, с важными манерами, замечательно представительный, Раули походил на одного из видных государственных деятелей Англии середины девятнадцатого века. Он остановился, не смешиваясь с группой, и некоторое время все смотрели на поросят в молчании, которое нарушалось только хрюканьем или хлюпаньем копыт по грязи. Наконец Раули повернулся, медленно, внушительно, сдостоииством, как он делал все, и обратился к Генри Уимбушу.
— Взгляните на них, сэр, — сказал он, указывая рукой на копошившихся в грязи животных. — Их справедливо называют свиньями.
— Да, конечно, — согласился мистер Уимбуш.
—Этот человек приводит меня в смущение, — сказал мистер Скоуган, когда старый Раули не спеша и с достоинством удалился своей тяжелой походкой. — Какая мудрость, какие здравые рассуждения, какая точность в оценках! «Их справедливо называют свиньями!» Да! И хотел бы я с таким же основанием сказать: «Нас справедливо называют людьми!»
Они двинулись дальше, туда, где были коровники и конюшни для ломовых лошадей. На пути им встретилось пять белых гусей, вышедших, так же как и они, подышать воздухом в это чудесное утро. Гуси загоготали, остановившись в нерешительности, потом, вытянув по-змеиному свои длинные шеи, бросились прочь, устрашающе шипя. На просторном дворе в грязи и навозе топтались рыжие телята. В загоне стоял бык, внушительный, как паровоз. Это был очень спокойный бык, и на морде его застыло выражение меланхолической глупости. Он пристально смотрел на пришедших своими красновато-карими глазами, задумчиво пережевывая утренний корм, сглатывал, отрыгивал и снова жевал. Хвост его с силой хлестал то по одному, то по другому боку и словно существовал отдельно от неподвижного туловища. Между короткими рогами рос треугольник рыжих тугих завитков.
—Прекрасное животное, — сказал Генри Уимбуш.— Племенной бык. Но он тоже стареет, как и хряк.
—Откормите и забейте его, — заявил мистер Скоуган, с отточенной отчетливостью, словно старая дева, произнося каждое слово.
—Неужели вы не можете дать животным немного отдохнуть от производства потомства? — спросила Анна. — Мне жаль бедняг.
Мистер Уимбуш покачал головой.
—Лично мне, — сказал он, — приятно видеть, как четырнадцать свиней растут там, где раньше была одна. Зрелище жизни в таком грубом и сильном проявлении освежает.
— Я рад слышать это, — с жаром перебил Гомбо. — Побольше жизни, вот что нам нужно. Я за размножение: все должно непрерывно расти и умножаться количественно.