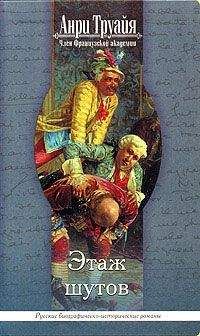— Сожаление отчего? — спросила бы Алка.
— Оттого, наверное, что время тащит тебя через коридор, как грубая нянька за ухо, А может быть, все настоящее потрясает по-настоящему.
— Надо еще это настоящее увидеть и по-настоящему потрястись. Способность принять и почувствовать — это молодость.
— Молодость беспечна. В молодости кажется, что всего навалом. Будут еще тысяча чудес света и миллион мгновений. Зачем их останавливать.
— А может, это просто Мансуров? — предположила бы Алка.
— Нет. Тогда все что-то почувствовали. Миколас из Литвы стоял со своими висячими усами, как будто его заговорили. А потом сказал одно слово: бон. По-французски это значит: хорошо.
— А почему он сказал по-французски, а не по-литовски?
— Он недавно из Парижа приехал. А Егор Игнатьевич вдруг ни с того ни с сего взбежал на гору, нарвал каких-то мелких цветов и стал заставлять всех нюхать. И меня заставил. И почему-то казалось, что он за собой туда взбежал, на эту гору. И букетик — это его существо, вернее — неосуществленное. Его неопознанная душа, нераскрывшийся талант, вернее — не туда раскрывшийся. И он навязывает все это — и душу и талант, сует к самому лицу. Мне почему-то его стало жаль, захотелось успокоить, сказать: «Да ладно, Егор… все хорошо. Все у тебя нормально».
— Ну а Мансуров? — напомнила бы Алка.
— В гостиницу вернулись к вечеру.
Когда вошла в номер, телефон звонил. Казалось, он звонил беспрерывно, будто испортился контакт.
Она сняла трубку. Там помолчали. Потом голос Мансурова сказал очень спокойно:
— Пропади ты пропадом со своей красотой. Пропади ты пропадом со своими премиями.
Наташа вздрогнула:
— Какими премиями?
— Твои ученики получили две первые премии.
— Кто?
— Сазонова и Воронько.
Значит, домик с теплым окном получил первую премию. Значит, правильно она думает и заставляет правильно думать своих учеников. Воронько — за домик. А Сазонова — за крыло бабочки. Она взяла крыло бабочки и так его разглядела, что все только ахнули. Потому что никогда раньше не видели. Считали, наверное, что это мелочь. А Сазонова объявила: не мелочь. И вообще — нет мелочей. Главное, в конце концов, тоже состоит из мелочей.
Через десять минут Мансуров стоял перед ней, охваченный настоящим отчаянием, и она с каким-то почти этнографическим интересом смотрела, как проявляется в нем это сильное разрушительное чувство.
— Только ничего не объясняй! — запрещал он и тряс перед собой пальцами, собранными в щепотку. — Только ничего не говори!
— Но…
— Молчи! Слушай! И дочка наша такая же будет! Предательница и эгоистка. Ты передашь ей это со своими генами, и она так же будет меня бросать.
— Так же будет исчезать, — скороговоркой вставила Наташа.
— Больше ты меня не увидишь. Я думал, ты — одно. А ты — совершенно другое. Не мое дело тебя судить. Живите как хотите. Но я в это не играю. Я ухожу.
— Да иди, — сказала Наташа, обидевшись на множественное число. «Живите как хотите»… Значит, она — часть какого-то ненавистного ему клана, где много таких, как она. — Иди, кто тебя держит…
— Да, я уйду. Я, конечно, уйду. Я все понял.
— Что ты понял?
— Я понял, что это нужно только мне, а тебе это не надо.
— Что «это»?
Наташа понимала, что «это». Но она хотела, чтобы он оформил словами.
Он молчал какое-то время — видимо, искал слова. Потом сказал:
— Железная дверь в стене. В каморке у папы Карло. А ключик у нас. У тебя и у меня. Один. Но у тебя другая дверь, и мой ключ не подходит. Я устал. Господи…
Он опустился в кресло и свесил голову. Потом поставил локти на свои острые колени и опустил лицо в ладони.
— Господи… — повторил он. — Неужели нельзя по-другому? Неужели можно только так?
Он устал от чужих дверей. От предательств. Господи, неужели нельзя по-другому?
Наташе стало жаль его, но и нравилось, что она внушила ему такие серьезные душевные перепады.
— Успокойся, — строго сказала Наташа. — Ничего не случилось. Это недоразумение, не более того.
Он поднял голову.
— Просто ты исчез. Я тебя потеряла. Куда ты подевался?
— Это я подевался? Я?
Они долго, целую минуту или даже две бессмысленно смотрели друг на друга, и Наташа поняла: он искренне уверен в том, что она сбежала. Что ей было удобно его отсутствие.
— Ты не прав, — сказала она. — Поверь мне.
— Как поверить?
Его душа, утомившаяся от предательств, ждала и верила только в одно. В следующее предательство.
— Как поверить? — растерянно переспросил он.
— Просто поверь. Не рассуждая. Скажи себе: я верю. И поверь.
Она подошла к нему. Он поднялся. Провел двумя пальцами по ее щеке медленным движением. Он как бы возвращался к ней, касался неуверенно, робко, будто боялся обжечься.
— Руководительница выставки оглядела автобус и сказала: «Все в сборе. Поехали», — дополнительно объяснила Наташа. — И поехали.
— Она нарочно так сказала. Она меня ненавидит. Меня здесь все ненавидят. Я не останусь. Я уеду с тобой.
— Куда?
— Все равно. Где ты, там и я. Я не могу без тебя. Я это понял сегодня. Не могу. Меня как будто ударили громадным кулаком. Вот сюда, — он положил руку под ребра на солнечное сплетение, — и выбили весь воздух. И я задохнулся. Зашелся. А потом сквозь стон и боль вдохнул вполглотка. И еще раз вдохнул. И этот воздух — ты. Я тебя вдохнул. Я умру без тебя.
Наташа промолчала.
— Ты мне не веришь?
— Верю. Но я замужем, в общем… — Главной была не первая часть фразы, а последнее слово: «в общем»…
— Ну и что!
— Где ты будешь жить? Что ты будешь делать?
— Я буду жить где угодно и работать где угодно. Только возле тебя. Все будет так, как ты захочешь: скажешь: женись — женюсь. Скажешь: умри — умру.
— Не надо умирать. Живи.
— Господи… — вздохнула бы Алка. — Никому не нужна. Ни на секунду.
— Ты и так в себе уверена, — сказала бы Наташа. — Ты сама себе нужна.
— Я? — Алка бы подумала. — Я, конечно, в себе уверена. Мне не надо, чтобы мне каждую секунду говорили, что я лучше всех. Но я хочу собой делиться. Отдавать себя. Видеть мир в четыре глаза.
— Отдавай себя Гусеву.
— А я ему не нужна. То есть нужна, конечно, но иначе. Мой реальный труд. Руки, горб, лошадиные силы. Но не глаза.
— Тогда какой выход? Уносить из дома глаза — грех. А жить вслепую — еще больший грех.
— А как жить? В чем истина?
— Если человек болен, то для него истина в здоровье. Если он в пустыне и хочет пить, то для него истина — вода. А если есть здоровье и вода, а нет любви, то для него истина — в любви. Чего нет, в том и истина.
— Истина — в незнании истины, — сказала бы Наташа. — Так же как не кончаются числа. Никогда нельзя найти последнего числа. И нельзя найти окончательной истины. И это правильно. Если человечество познает истину — человечество остановится. Оно дойдет до истины — и все. И уже дальше ничего не интересно.
— Наверное, нет общей истины. У каждого — своя. Главное — ее выделить и не затерять. Как драгоценный камешек в коробке среди пуговиц и бус.
— А как разобраться, что камешек, а что буса?
— Дело и дети — это камешки.
— А любовь?
— Это смотря что она после себя оставляет…
* * *
На закрытии выставки к Наташе подошел Игнатьев и сказал:
— Поздравляю. Успех — это самый реальный наркотик.
Наташа летуче улыбнулась ему, держа в руке бокал. На ней было платье на бретельках. Открытые плечи и спина. Можно в жару в лодке плавать. Васильки собирать. И на закрытие выставки прийти.
Мансурова не было. Когда Наташа вошла в зал, она сразу почувствовала, а потом уж и увидела, что его нет.
Подходили художники, педагоги, начальство. Поздравляли. Наташа благодарила, веря в искреннюю доброжелательность, но все время ждала. Что бы она ни делала, она ждала Мансурова, и каждая клеточка в ее теле была напряжена ожиданием.
Подошла руководительница выставки и спросила:
— Почему Мансуров два дня не отходит от Вишняковой?
Она назвала Наташу по фамилии — так, будто речь шла не о ней, а о третьем человеке и этого третьего человека она не одобряла.
— Два дня — это много? — беспечно спросила Наташа, выгораживая третьего человека.
— Это очень много, — с убеждением сказала руководительница выставки.
И это действительно очень много. Два дня — сорок восемь часов, 2880 минут. И каждая минута — вечность. Две тысячи восемьсот восемьдесят вечностей.
Наташе захотелось спросить: «А какое твое собачье дело?»
Но, видимо, это было именно ее дело, и именно собачье, по части вынюхивания. И она не стала бы задавать пустых и праздных вопросов. Наташа Вишнякова — не Анна Каренина, Мансуров — не Вронский. Володя Вишняков — не Каренин, хотя и состоит на государственной службе. И общество — не высший свет. Но… Наташа стояла возле руководительницы и понимала, что нужно объясниться. Объяснить себя.