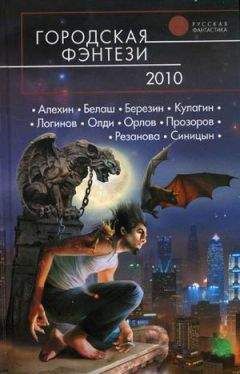— Чьи стихи? — снова спросил парень.
Чьи это стихи, я знал, но парень безбожно коверкал Маяковского, и я ему сказал об этом.
Он снял фуражку и положил ее на ящик с гвоздями. Потом посмотрел на меня. Глаза у парня были карие. Темные волосы спускались на воротник пальто. Дождь намочил их, и они блестели.
— Стоишь? — спросил парень.
— Стою, — кивнул я.
— А гвозди пусть дядя собирает?
Я взглянул на шофера. Он привалился могучим плечом к капоту и курил. Смотрел на речку. Косо смотрел. Гвоздей на мостовой валялось еще много. Делать мне все равно было нечего, и я присел рядом с парнем.
— Гвозди сейчас дороже золота, — сказал парень. — Гвозди — это всё.
— Тоже по радио слышал? — спросил я.
— Не, — сказал парень. — Это я сам придумал.
— Кончай, Швейк, — подал голос шофер. — Замерз.
— Побегай, дядя Корней, согреешься, — сказал Швейк.
Дядя Корней бегать не стал. Он забрался в кабину и завел мотор. Мы со Швейком ладонями сгребли оставшиеся гвозди и с трудом подняли тяжелый ящик на грузовик.
— Подвезите, — попросил я.
— Дядя Корней, — сказал Швейк. — Человека надо до центра подбросить…
— Много тут ходит человеков, — хмуро сказал дядя Корней. — Всех не перевозишь.
— У него папа большой начальник, — незаметно толкнув меня в бок, сказал Швейк. — Начальник милиции.
— По мне хоть нарком, — сказал дядя Корней, но подвинулся, давая нам место в кабине.
Всю дорогу молчали. В центре города шофер спросил:
— Где остановить? У милиции?
Я пожал плечами. Мне было безразлично, где меня высадят.
— До техникума, — сказал Швейк.
Железнодорожный техникум находился недалеко от Сеньковского переезда. Покачиваясь рядом со Швейком на скрипучем сиденье, я не знал, что сама судьба везет меня к новому порогу.
От техникума осталась громадная коробка. Ее окружили леса. Маленькие черные фигурки стояли на лесах и латали кирпичом огромные прорехи. Внизу человек сорок парней и девушек орудовали ломами и лопатами, таскали на носилках землю, обломки кирпичей. Швейк первым выскочил из машины и крикнул:
— На разгрузочку!
Дядя Корней не торопясь отбросил крюки. Борта лязгнули. Подошло человек пять.
— В кладовую, — распорядился Швейк.
Какой-то высокий парень в летном шлеме взвалил ящик с гвоздями на плечо, охнул и, вытаращив на меня глазищи, сказал:
— Помоги, а то пуп надорву.
Я подхватил ящик. Мы оттащили его в холодную полутемную кладовую. Потом таскали квадратные ящики и длинные. Тяжелые и легкие. В ящиках что-то брякало, перекатывалось. Потом мне дали лопату и велели накладывать мусор на носилки. Я швырял полные лопаты разного хлама, оставленного фашистами. Мне стало жарко, сбросил куртку. Соленый пот щипал глаза. Я забыл про голод, дождь. Мне стало весело. Две девчонки в стеганых куртках, перепачканных известкой, таскали носилки. Щеки у них были красные, глаза блестели. Поравнявшись со мной, одна из них, светлоглазая, командовала:
— Раз-два-три!
Носилки с костяным стуком падали на землю. Я кидал мусор, а девчонки стояли рядом и смотрели на меня. Я на них не смотрел. Я смотрел на лопату и на их ноги. У одной были приличные ножки. Полные, с круглыми коленками. Но все портили башмаки. Грубые, облепленные известью, они каши просили. Как-то раз, набросав на носилки мусора, я выпрямился и повнимательней посмотрел на девчонок. Приличные ножки принадлежали светлоглазой. Вторая была тумба — круглощекая, с крошечным носом. Про таких толстух моя бабушка говорила, что у них нос караул кричит — щёки задавили. У моей бабушки был верный глаз. Толстуха мне совсем не понравилась. А светлоглазая была ничего. Хорошенькая.
— Не человек, а землеройная машина, — сказала Тумба.
— Экскаватор, — подтвердила светлоглазая. У нее был приятный голос.
Надо было что-то ответить, но у меня словно мозги высохли. Ни одной мысли. Такая неприятная штука не первый раз приключалась со мной. Знакомиться с девчонками я не умел. Мой дружок Женька Ширяев мог в пять минут познакомиться с любой девчонкой. Ему это раз плюнуть. А для меня — каторга. На ум приходят разные глупости. Голос становится каким-то жестяным и дребезжит, как консервная банка, которую ногой поддали. Несу какую-то чушь, самому стыдно. А остановиться не могу. Хочется выкрутиться, вместо очередной глупости что-нибудь поумнее сказать, а говорю опять чушь. Обычно это проходит, когда получше познакомишься. Но ведь не всякая девчонка захочет получше знакомиться с парнем, который несет околесицу. И еще в придачу говорит жестяным голосом.
После продолжительной паузы я сказал:
— Дождь…
Девчонки посмотрели на небо, подставили ладошки.
— Кончился, — сказали они.
Весь день лил, проклятый, а тут и вправду кончился! Хотя бы одна капля для смеха упала с неба.
— Был дождь, и вот нету, — сказал я.
— Нету, — какими-то странными голосами подтвердили девчонки.
— К вечеру опять зарядит, — сказал я, проклиная себя. Ну чего я привязался к этому дождю?
Девчонки быстро нагнулись, подхватили носилки и ушли. До ямы метров сто. Вернутся они минут через пять. За это время нужно что-нибудь поумнее дождя придумать. Воткнув лопату в мусор, я стал думать. Как всегда в таких случаях, в голову ничего путного не лезло.
Девчонки пришли, бросили носилки.
— Дожди всегда осенью бывают, — сказала светлоглазая.
— И весной, — сказала Тумба.
— И летом, — сказала светлоглазая.
— И зимой, — сказала Тумба. — Правда, редко.
Уши мои запылали. Я повернулся к девчонкам спиной, поддел лопатой гору мусора и швырнул на носилки. Мусор с грохотом раскатился по доскам.
— А снег летом бывает? — спросила Тумба.
Это было не смешно. Глупо. Любая шутка, если она затягивается, становится глупой. В душе я был рад, что этот вопрос задала Тумба, а не светлоглазая. Когда носилки были наполнены, я выволок из свалки большущий камень и положил сверху.
— Мы не лошади, — сказала светлоглазая.
— Не валяйте дурака, — сказал я. — Тащите.
Тумба подергала за ручки носилок, охнула:
— Не поднять.
— Подымете, — сказал я.
Они с трудом оторвали носилки от земли и, покачиваясь, потащили к яме. Я смотрел им вслед и усмехался: это вам не снег… и не дождь. Пигалицы!
Понемногу у меня с девчонками наладились нормальные взаимоотношения. Камней я им больше не клал, а они перестали толковать про дождь и снег. От них я узнал, что в техникуме пока занятий нет: вместо потолка в аудиториях небо. Не все еще преподаватели прибыли: квартир нет. Все приходится строить самим: и учебный корпус, и общежитие. К годовщине Октябрьской революции всё должны закончить. Девятого ноября — первый день занятий.
— Ты на паровозном? — спросила светлоглазая. Ее звали Алла.
— На паровозном, — сказал я. И сам не понимаю, зачем соврал.
— Ваша аудитория рядом с нашей, — сообщила Тумба.
У нее и имя было какое-то дурацкое — Анжелика. Где такое выкопали? У меня тоже имя было не ахти какое: Ким. Коммунистический Интернационал Молодежи. Ну какой я Интернационал? Директорша школы, из которой меня выгнали в три шеи, рыжая Аннушка, публично заявила, что у меня сознательности и на один грош не наберется. Это имя мне родной отец удружил. У него сознательности хватило: имя-то подобрал идейное, а вот семью бросил.
И сколько я горя хватил с этим именем! В школе меня с первого класса стыдили: «Как тебе не стыдно, Ким? Плохо по истории! А еще Ким…» Ну ладно, по истории позорно двойки получать с моим именем, а, скажем, по геометрии или по алгебре? А ведь тоже стыдили. И ребята издевались надо мной. У них еще сознательность не доросла до моего имени. Они не знали, что такое Ким, а потому дразнили меня кто во что горазд. Один называл Китом, другой Кино, третий — Кило. Даже Критом и Квитом называли. И я терпел. А что мне еще оставалось делать? Завидовать другим ребятам, у которых были обыкновенные имена: Толька, Ванька, Колька.
Во время войны, когда я один жил у бабушки в Куженкино, я придумал себе новое имя: Максим. Максим Константинович Бобцов. Имя Максим мне давно нравилось.
Надоело мне мусор швырять на носилки. Да и с какой стати я здесь вкалываю? Я не студент и не строитель. Я посторонний. Случайный прохожий. Но лопату не бросал. И не уходил. Все-таки люди кругом. Снова оставаться наедине со своими мыслями не хотелось. Девчонки тоже устали. Это я видел по глазам: глаза у них уже не блестели. Девчонки ждали, что объявлю перекур. Но я не объявлял. Наоборот, с каким-то непонятным упрямством размахивал лопатой. Первой запросила пощады Тумба. Она тяжело плюхнулась на бревно и сказала:
— Упарилась.
Светлоглазая Алла сняла платок. Волосы у нее были густые, не очень длинные. В темных волосах — белая гребенка. Алла присела рядом с Анжеликой, вытянула свои красивые ножки в безобразных бахилах.